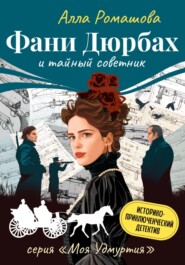По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преступление без наказания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Постараемся, Илья Петрович, – ответил лысоватый человек с небольшим животом.
– Вот и славно! А мне губернатор вятский дал особое поручение: достойно разместить августейшую особу и его наставников. Я знаю только один дом, готовый принять столь высоких гостей – мой. Точнее – казенный. У нас две недели, чтобы подготовить его. Друзья-коллеги, за работу!
Для помощи по дому и подготовки комнат под нужды свиты Великого Князя отобрали лучших слуг. А из Нижнего Новгорода, чтобы развлекать высокопоставленных гостей на чистом французском, срочно вызвали гувернантку-француженку Фани.
Она прибыла в Воткинск рано утром. Всю дорогу девушка учила сложные корявые русские слова и, измученная долгой дорогой, уже подумывала о том, что зря ввязалась в такую авантюру – согласилась на службу в далеком затерянном городке, чуть ли не на краю света. Но радушный прием ее так приятно удивил, что она вмиг забыла про свои сомнения. Илья Петрович вместе с высыпавшими дворовыми встретил девушку, словно это была его родная дочь, с которой он к тому же давно не виделся. Он троекратно расцеловал уставшую с дороги гувернантку и повелел выделить ей комнату, которую, однако, по причине ожидаемого нашествия гостей, пришлось делить с горничной.
«Пока не приехала моя супруга, Онисья поступает к Вам в услужение и помощь. Она поможет разобрать багаж и все Вам покажет. А пока отдыхайте с дороги», – с этими словами Чайковский оставил Фани наедине со слугами.
Мальчишку Мишку отправили переносить багаж гувернантки. Дворовые сгрудились вокруг брички, разглядывали чемодан, коробку для шляпки, саквояж и саму хозяйку утвари. Фани решительно улыбнулась и спросила: «Кто из вас ОнисьЯ», – ставя ударение на последний слог. Девка Прасковья, прачка, хихикнула: «Я – ОнисьЯ». Горничная шикнула на нее и вышла вперед, одновременно подхватывая саквояж из рук француженки. «Онисья я, – поправила она, – пойдемте, барышня, покажу Вашу комнату». Фани, подобрав юбки, засеменила за ней, едва успевая за быстрым шагом девушки. «А хороша французская кобылка!», – мечтательно завел Мишка, когда вернулся, отнеся багаж. Мужики засмеялись.
Комната оказалась светлой и довольно просторной. Постель гувернантки располагалась у окна. У противоположной стены стоял шкаф и единственный стул. Кровать Онисьи была прямо у входа. Под ней разместилась корзина с бельем, на стене на гвоздях висело пару платьев. Горничная поставила тяжелый саквояж на стул и спросила: «Разобрать багаж?»
Фани осмотрелась. Села на кровать, вытянула ноги. «Я плехо говорю по-рюсски, – обратилась она к горничной. – Ты будешь учьить менья?» Онисья широко заулыбалась. «Конечно, барышня». Француженка тоже улыбнулась: «Зови менья Фани».
Так началась эта странная дружба приезжей француженки и дворовой крепостной. Онисья оказалась доброй учительницей, не жалеющей сил повторять одни и те же слова, а Фани – отличной ученицей, хватающей новое на лету. Через неделю, когда девушки готовили комнаты к приезду наследника: вычищали мебель, расставляли фарфоровые статуэтки, раскладывали письменные принадлежности, – Фани уже в общих чертах понимала, что ей говорила Онисья, а то, что не понимала, додумывала.
Онисья весело щебетала:
– Я ему говорю: «Хочу замуж по-ностоящему, чтобы было венчание, свадьба». А он мне: «Довай по нашему обычаю поженимся». А что значит «по нашему обычаю»? Пошел на посиделки, остался на ночь и все – пара. Как у животных, ей-богу. Не хочу так!
Фани ей отвечала, показывая жестами то, что не могла выразить словами:
– Nous avons aussi une еtrange coutume.У нас тоже есть странные обычаи. На свадьбе молодые должны поесть из горшка, куда весь вечер бросают объедки гости.
Онисья залилась смехом:
– Как собаки? На собственной свадьбе? Объедки? Дикие вы, французы. А правда, что вы лягушек едите?
– C'est tr?s bon! Это очень вкусно! – веселилась Фани, наблюдая, как кривится симпатичная мордашка Онисьи. – Надо вместе попробовАть!
– Ну уж нет! Лягушек у нас только колдуны в свои варева кидают. По доброй воле – ни за что!
Вечерами, когда заканчивали с работой, девушки вдвоем отправлялись на пруд, который был в двух минутах ходьбы от усадьбы. Лето выдалось жарким. Вечера стояли теплые. Дворовые купались отдельно от господ, для которых были построены купальни. Пока Онисья, скинув верхнее платье, не стесняясь, бросалась в воду, француженка сидела на лавочке, обливаясь потом.
Однажды работа затянулась, и купаться пошли уже поздно, когда стемнело. На пруду никого не было. Онисья уговорила француженку зайти в воду. Та аккуратно сложила платье на скамью перед купальней и смело зашла пруд. Фани сделала несколько гребков и перевернулась на спину, разглядывая звездное небо. Кто-то коснулся ее руки. «Это ты?» – спросила Фани, поворачивая голову, и никого не увидела. Голос Онисьи звенел где-то в темноте. Фани насторожилась, и тут же кто-то с силой толкнул ее из воды и ударил по ногам. Фани схватила ртом воздух и поплыла к берегу, но невидимая сила опять ударила в бок, и ее потянуло в глубь. Фани успела выкрикнуть:«Помо-о…» – и ушла с головой под воду. Она увидела огромные желтые глаза. Они таращились на нее, неуклонно приближаясь. Фани закричала под водой и выпустила из груди остатки воздуха, которые пузырями поднялись на поверхность. Глаза приблизились почти вплотную. Огромная рыбина, раза в два больше хрупкой девушки, развернулась прямо перед ее лицом и ударила по воде хвостом так, что она перевернулась вниз головой и, потеряв баланс, начала тонуть.
Когда ее безвольное тело уже касалось илистого дна, сильные руки вдруг ухватили француженку за волосы и вытянули на поверхность воды. Онисья держала голову Фани одной рукой, а второй гребла к берегу. Вытащив подругу на берег, она что было силы надавила той на грудную клетку, едва не сломав ребра. Изо рта Фани вырвался фонтан воды. Девушка закашлялась и задышала, приходя в себя.
– Merci, Онисья, – от волнения Фани перешла на французский. – Если бы не ты. Даже не хочу думать, чем бы это закончилось! Кто это был? – спросила она уже на русском.
Онисья замахала руками, изображая чудище:
– Водяному ты приглянулась. Французских барышень не видал, вот и решил на тебе жениться.
– Что ты выдумываешь? – девушка всматривалась в пантомиму горничной. – Это рыба была – огромная, с желтыми глазами, – по-французски отвечала Фани.
– Вот я и говорю, водяной, – твердила горничная. – Хорошо, что я рядом была, а то утопла бы барышня ни по чем.
Онисья усадила Фани на скамью, растерла ее, стараясь согреть. И пошла за одеждой.
«Прохлаждаетесь?» – из тени деревьев выступил мужской силуэт. Девушки завизжали. Мужчина вышел на освещенную луной дорожку. Оказалось, что это Москвин. «Да не кричите, оглашенные! Не смотрю я, одевайтесь».
– Барин, мадемуазель Фани чуть не утонула, водяной ее утянул, – рассказывала Онисья, натягивая на француженку, а затем на себя платье.
– Водяной? Это тот, который с усами и желтыми глазами?
– Он, – ответила Фани. – Вы тоже его видели?
– Зачем же вы ночью полезли в воду, дорогая мадемуазель Дюрбах? У нас здесь, знаете ли, сомы водятся. Одного уже с год поймать не могут – гусей и коз в воду утаскивает. Видимо, теперь за французских курочек принялся.
– А почему Вы за нами подглядываете, Алексей Степанович? – перешла на французский Фани, почувствовав в последнем высказывании скабрезную иронию.
– А затем, милая Фани, что у нас не безопасно по ночам гулять. Я шел от господина губернатора, слышу: смех, а потом крики. Вот и кинулся узнать, что случилось. А тут – такие русалки на берег вышли. Осторожнее надо быть, однако. Позвольте проводить вас до дому? – Москвин подошел к одетым уже женщинам.
– Ну хорошо,– все еще стуча зубами, ответила та, хватаясь за предложенную руку и, приноравливая свой шаг к его.
…
– Владимир, чай будешь? – обратился к богатырю Коровьев, вернув бомжа из уютного мира девятнадцатого века в унылую современность.
Владимир подошел за своей кружкой, вернулся обратно, сел. Кружку поставил на подоконник и опять открыл книгу на первой странице, там, где была фотография автора Елены Шмуляк. Полюбовавшись, продолжил чтение. Коровьев заметил это и ухмыльнулся, ничего однако не сказав вслух. Книжка была потрепана и читана-перечитана много раз, но рыжий крепыш с упоением листал ее вновь и вновь.
Глава 2. Наши дни
Владимир спал коротким тяжелым сном. Опять снилась авария: черная фигура в ярком свете фар, скрип тормозов, удар, обмякшее тело на капоте, звон в ушах, ледяной ужас, и страх, сковавший все тело. Руки, вцепившиеся в руль. Визжащий сигнал скорой помощи. Звук нарастал и пробивался сквозь тягучий сон. Веки Владимира дрогнули и открылись. Металлический будильник дребезжал и подпрыгивал на тумбочке рядом с лежанкой, на которой в одежде спал Владимир.
Парень встал, тряхнул головой, отгоняя остатки дремы, прошел мимо Коровьева, заснувшего облокотившись на стол. Накинул телогрейку, висевшую на гвозде перед деревянной дверью сторожки, и шагнул в ночь, на мороз, в стылую синеву. Дошел до черной кучи древесного угля. Он сиял при свете луны, переливался алмазным блеском. Володя быстро накидал лопатой полную тележку антрацитовых звезд и, трясясь вместе с поклажей по неровной тропке, выложенной кирпичом, покатил фальшивое богатство обратно в сторожку, откуда имелся вход в котельную лесозавода.
Когда рассеялась пыль от сброшенного на пол угля, парень загрузил очередную порцию огненной еды в жадное нутро большой, грязной от копоти печи и вернулся в сторожку. Поставил на конфорку мятый металлический чайник. Вышел покурить – с недавних пор у него появилась еще одна нехорошая привычка.
После крепкого чая не спалось. До следующей топки еще час. Володя открыл оставленную на столе книгу, полистал. Не читалось – сказывалась усталость, не дающая погрузиться в чтение – в шестой раз он уже возвращался к одной и той же странице, витая мыслями совсем в другом месте. Вспоминался Воткинск, их первая с Еленой встреча.
Рабочий городок Воткинск раскинулся вокруг большого красивого пруда. Широкая дамба, перегородившая излучины трех рек, соединила две части города: частный сектор с музеем-усадьбой и непосредственно сам город с бывшим металлоделательным заводом, который ныне кардинально преобразился и выпускал баллистические ракеты. Завод занимал просторную территорию: свежевыкрашенные здания, охрана, строгая дисциплина, рабочая обстановка.
Жилые дома города растянулись вдоль набережной. Сталинские розовые пятиэтажки смотрели на пруд. Бывшие купеческие доходные дома, выкрашенные в желтый и белый, были отданы под административные нужды, банки. Дворец культуры, в котором ежегодно проходил фестиваль Петра Ильича Чайковского, и выступали мировые приглашенные звезды, стоял прямо посередине улицы. За ним – парк Высоцкого. Его разбили сами горожане, установили памятник актеру. В антикварных телефонных автоматах, расставленных по аллеям парка, звучали песни барда. Городок уютный. Старые деревянные дома с красивейшими резными наличниками, орнаментом, фигурками зверей и птиц погружали случайных туристов, занесенных в этот удаленный от федеральных трасс край, в атмосферу девятнадцатого века. Останавливался ход времени, мысли начинали течь неспешно. Хотелось прогуляться вдоль пруда, облокотиться на парапет и смотреть на блестящую от солнца гладь пруда. Тишина и покой. Только колокольный звон нарушал сонное безмолвие городка.
Благовещенский Храм стоял в самом центре города, на большой площади, напротив плотины – огромный, величественный, с золотым, переливающимся на солнце шпилем колокольни и большущими чугунными колоколами. Подъезжая к Храму, христианин невольно вскидывал руку, накладывая на себя крест, и с удивлением останавливался, замечая перед Храмом не менее величественную фигуру вождя пролетариата. Черный чугунный Ленин стоял на стеле-стреле, перекрывая вид на храм. И христианин ловил себя на мысли, что он не просто крестится, а открещивается от ужасного видения, как деревенская бабка, приговаривая: «Свят, свят, свят». Историю не сотрешь. Стоял Ленин напоминанием о других временах. В советское время здесь был дворец культуры, потом кинотеатр, в перестройку в подвале работал ресторан – место бандитских сходок. Все кануло в Лету. Теперь в храме велась реконструкция. Восстановили внешний облик прекрасного здания. Внутри под пустым куполом храма муравьишками двигались рабочие, готовили пол к заливке, штукатурили стены, аккуратно обходя деформационными швами старинные фрески.
На плотине высился, раскинув крылья, огромный металлический якорь, выкованный когда-то самим Великим князем Александром Николаевичем, старшим сыном императора Николая Первого. Стоял, как и предсказывал об этом шаман двести лет тому назад.
Артель художников-иконописцев ехала в город Воткинск на роспись нижнего храма. Того самого, в котором раньше размещались склады и бандитский ресторан. Старенький автобус, подпрыгивая и бренча на кочках, заехал в город, прокатился по длинному асфальтированному полотну над плотиной, мимо завода, центральной площади, повернул направо, по узким улочкам взобрался вверх и, издав тормозами жалобный скрип, остановился рядом с небольшой кладбищенской церковью. Двери автобуса, шипя, открылись, и художники высыпали на площадь перед церковной оградой, весело переговариваясь, выгружая из автобуса сумки, коробки с краской, рулоны бумаги, кальки. Бригаду иконописцев составляли в основном девушки и женщины. Мужчин было двое: руководитель артели, темноволосый плотный удмурт, бодро дирижирующий веселой женской толпой, и инвалид с большой непропорциональной головой и шишками размером с куриное яйцо, нависающими над бровями, взятый на практику более из сострадания, чем для помощи.
Женщины-художницы подхватили сумки-коробки, зашли через распахнутые ворота на территорию церкви. Уверенно повернули налево и остановились перед кирпичным зданием в один этаж с высоким чердаком. На крыльце дома стоял пожилой священник лет шестидесяти в черной рясе, с седыми волосами, собранными в хвост – Отец Георгий. Он радостно улыбался.
– Приехали! Добрались, сердешные! Уж мы вас заждались. Елизавета Петровна вон пирожков для вас состряпала. Выглядывала каждую минуту. Не дождалась, ушла по делам. Ну, идите, обниму!
Темноволосый удмурт первым приблизился вразвалку на больных артрозных ногах к священнику и преклонил голову. Отец Георгий одной рукой перекрестил подошедшего, другой полуобнял: