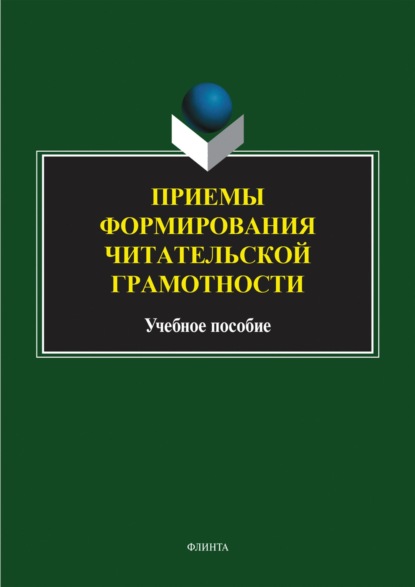По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правила вежливости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Правила вежливости
Амор Тоулз
Амор Тоулз. От автора Джентльмена в Москве
«Правила вежливости» – первый роман автора бестселлеров New York Times. Уже продано более одного миллиона копий. Книга принесла колоссальный успех Амору Тоулзу, написавшему впоследствии «Джентльмена в Москве» и «Шоссе Линкольна».
Последний вечер 1937 года. Кэти Контент вместе со своей подругой Ив посещают второсортный джаз-бар Гринвич-Виллидж, чтобы отпраздновать канун Нового года. Пока девушки пытаются разделить оставшиеся у них три доллара, соседний столик занимает обаятельный молодой банкир. Тинкер Грей, так его имя, угощает подруг коктейлем и заводит светский, ни к чему не обязывающий разговор. Так случайная встреча приводит Кэти в высшие круги нью-йоркского общества, где ей не на что будет положиться, кроме ее остроумия и собственного хладнокровия.
ДОЛГОЖДАННОЕ ИЗДАНИЕ ДЕБЮТНОГО РОМАНА АМОРА ТОУЛЗА!
Амор Тоулз
Правила вежливости
Роман
Amor Towles
Rules of Civility
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © Cetology, Inc., 2011
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
Предисловие
Четвертого октября 1966 года мы с Вэлом – нам обоим было тогда уже за пятьдесят – присутствовали на открытии выставки «Много званых» в Музее современного искусства; это была первая выставка фотографических портретов, сделанных Уокером Эвансом[1 - Уокер Эванс (1907–1975) – американский фотограф и государственный деятель, известный как защитник фермерских хозяйств во время Великой депрессии. Название данной выставки взято из Евангелия от Матфея, 22–14: «…Ибо много званых, а мало избранных». (Здесь и далее прим. пер. Примечания автора и редактора оговорены особо.)] скрытой камерой в нью-йоркском метро в конце 1930-х годов.
Выставка явилась событием весьма незаурядным, из разряда тех, которые журналисты, ведущие колонку общественной жизни, называют грандиозными. Мужчины были в смокингах, что как бы перекликалось с черно-белой палитрой фотографий, а женщины – в ярких платьях самой разнообразной длины: от щиколотки до середины бедра. Молодые безработные актеры с безупречно красивыми лицами с ловкостью акробатов подавали на маленьких круглых подносах шампанское. Собственно фотографиями большинство присутствующих почти не интересовались, целиком поглощенные приятной возможностью выйти в свет и развлечься.
Некая молодая особа, явно занимающая в обществе видное положение, была уже изрядно пьяна и, неловко споткнувшись, чуть не сбила меня с ног. Впрочем, в таком состоянии она была здесь далеко не одна. В последнее время даже на официальных приемах стало вполне приемлемым, даже стильным, напиться еще до восьми вечера.
Пожалуй, это не так уж трудно понять. К 50-м годам XX века Америка успела прибрать к рукам чуть ли не весь земной шар, заставив многие страны даже мелочь из карманов вытряхнуть. Европа превратилась в бедную родственницу – сплошные гербы и никаких застолий. А всевозможные неотличимые друг от друга страны Африки, Азии и Южной Америки только-только становились заметны, точно саламандры под солнцем, на картах, развешанных в школьных классах. Правда, где-то еще существовали и коммунисты, но, поскольку Джо Маккарти[2 - Джозеф Маккарти (1908–1957) – сенатор-республиканец крайне правых политических взглядов, сторонник гонки вооружений и «холодной войны». Связанное с ним понятие «маккартизм» является синонимом реакционной политики.] был уже в могиле, а до Луны вообще пока никто не добрался, русские пока что прокрадывались в основном на страницы шпионских романов.
Так что в те времена все мы были в большей или меньшей степени охвачены неким пьянящим чувством. Мы взмывали в вечерние небеса подобно искусственным спутникам и кружили над нашим городом, двигаясь по внеземной орбите на высоте двух миль, снабжаемые энергией за счет падения иностранных валют и хорошо очищенного алкоголя. За обеденным столом мы что-то орали, стремясь перекричать друг друга, а потом тайком уединялись в пустых комнатах с чужими женами и мужьями. Мы пировали с энтузиазмом и невоздержанностью греческих богов, но утром ровно в 6.30 просыпались с ясной головой и прекрасным настроением, готовые вновь приступить к работе за столами из нержавеющей стали, и чувствовали себя при этом кормчими мировой экономики.
Но в тот вечер в центре внимания был вовсе не знаменитый фотограф. В свои шестьдесят с лишним, исхудав от безразличия к пище настолько, что оказался не в состоянии даже смокинг заполнить собственным телом, Эванс выглядел настолько печальным и невыразительным, словно был не художником, а только что вышедшим на пенсию менеджером среднего звена из «Дженерал моторс». Время от времени кто-то нарушал его уединение, чтобы сделать комплимент выставленным работам или высказать некое замечание, но в целом он по четверти часа подряд в полном одиночестве неловко жался в углу точно самая уродливая девушка на танцах.
Нет, глаза всех были прикованы отнюдь не к Эвансу, а к некоему молодому, но уже лысеющему писателю, недавно ставшему настоящей сенсацией, ибо он накатал роман о любовных похождениях и изменах собственной матери. В сопровождении издателя и рекламного агента он с неприятной улыбкой лукавого неофита принимал комплименты от тесного кружка литературных фэнов.
Вэл с любопытством поглядывал на толпу лизоблюдов, старательно вилявших хвостом перед новомодным писателем. Сам он мог с легкостью зарабатывать $ 10 000 в день, ухитрившись, например, слить воедино швейцарский универсальный магазин и американскую ракетостроительную фирму, но за всю жизнь так и не научился понимать, каким образом подобный болтун способен породить вокруг себя такой шухер.
Видимо, рекламный агент был из тех, кто всегда помнит о своем окружении, ибо он, перехватив мой взгляд, дружески помахал мне рукой. Я помахала в ответ, взяла мужа под руку и сказала:
– Пойдем, дорогой. Давай все-таки и на фотографии посмотрим.
Мы прошли в следующий зал, где было уже не так многолюдно, и стали неспешно обходить его по периметру. Почти все снимки представляли собой сделанные в горизонтальной плоскости портреты одного или двух пассажиров сабвея, сидевших рядом и точно напротив фотографа.
Вот спокойный молодой обитатель Гарлема в шутливо сдвинутом набок котелке и с маленькими французскими усиками.
А вот сорокалетний тип в очках, в пальто с меховым воротником и в широкополой шляпе, придающей ему вид бухгалтера из гангстерской фирмы.
Две незамужние девицы из парфюмерного отдела универмага «Мейси» – обеим хорошо за тридцать – имеют весьма кислый вид, явно понимая, что лучшие их годы уже позади, однако брови у обеих подкрашены, а ресницы и вовсе невероятной длины, как говорится «отсюда и до Бронкса».
Тут некий «он»; там некая «она».
Тут молодое лицо, там – старое.
Этот явный щеголь, а тот одет в убогие обноски.
Эти фотографии, хоть и были сняты более двадцати пяти лет назад, никогда раньше на публике не выставлялись. Эванс, по всей видимости, проявлял должное уважение к личному пространству своих «объектов». Подобное предположение, возможно, звучит несколько странно (или даже излишне самоуверенно), если учесть, что фотографировал он этих людей в таком людном месте, как метро. Но стоит увидеть их лица, глядящие на тебя со стены, и сомнения Эванса становятся понятны. Ведь, если честно, на этих фотографиях как бы зафиксированы мгновения абсолютной душевной обнаженности самых разных людей. Погруженные в свои мысли, уверенные в надежности той маски анонимности, какую они всегда надевают во время ежедневных поездок на метро, и абсолютно не подозревая о фотоаппарате, нацеленном прямо на них, почти все «объекты» невольно раскрывают перед другими свое внутреннее «я».
Любой человек, которому приходится дважды в день ездить на метро, чтобы заработать себе на хлеб насущный, знает, как это происходит: ты садишься в вагон с тем же выражением лица, с каким обычно общаешься с коллегами и знакомыми. С этим выражением лица ты прошел через турникет и раздвигающиеся двери вагона, и пассажиры, сидящие там, практически сразу могут сказать, какой ты на самом деле – самоуверенный, дерзкий или, напротив, осторожный; влюбчивый или равнодушный; обеспеченный или живущий на пособие. Но вот ты нашел себе местечко, поезд движется дальше, приходит на одну станцию, на другую, часть пассажиров уже покинула вагон, их место заняли другие люди, вагон уютно, как люлька, покачивается, и постепенно твоя тщательно оберегаемая внешняя оболочка начинает с тебя соскальзывать. Твое супер-эго как бы растворяется, а мысли переключаются на твои личные заботы и мечты, которые ты как бы перебираешь про себя; мало того, ты словно погружаешься в некую благодатную полудрему, внутри которой, кажется, на задний план отступают любые проблемы и заботы, а их место занимают спокойствие и безмолвие космоса.
Такое случается со всеми. Вопрос лишь в том, сколько кому остановок нужно проехать. Некоторым достаточно двух. Другим трех. Остановки мелькают. Шестьдесят восьмая улица. Пятьдесят девятая. Пятьдесят первая. Центральный вокзал Нью-Йорка Гранд-Сентрал. Какое это все-таки огромное облегчение – несколько минут полной свободы от собственного внутреннего стража, когда взгляд утрачивает определенность, а душа обретает то единственное ощущение настоящего покоя, какое дает лишь изоляция от общения с людьми.
Непосвященным, по-моему, этот фотографический обзор должен был доставить немалое удовольствие. Молодые адвокаты, начинающие сотрудники банков и отважные светские девушки, проходя по залам выставки и глядя на эти фотографии, наверняка думали: Как ловко снято! Какая художественная находка! Наконец-то мы видим истинное лицо человечества!
Но для тех из нас, кто был молод в запечатленный на фотографиях период времени, «объекты» мастера выглядели как призраки прошлого.
* * *
1930-е годы…
Каким же мучительным было это десятилетие!
Мне было шестнадцать, когда разразилась Великая депрессия. Я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать: все мои мечты и ожидания, порожденные волшебным блеском двадцатых годов, оказались с легкостью разрушены. Создавалось впечатление, что Депрессия в Америке была запущена специально для того, чтобы дать Манхэттену урок.
После Катастрофы, как часто именуют этот период, вряд ли можно было услышать, как на тротуар со стуком падают тела голодных, и все же в воздухе словно послышалось некое коллективное «ах!», а после этого сразу наступила мертвая тишина, накрывшая город как снежное покрывало. Огни едва мерцали. Музыкальные ансамбли и всевозможные джаз-банды сложили свои инструменты, и толпы людей потихоньку побрели на выход.
Затем преобладающие ветры сменили направление и теперь стали дуть с востока, принося пыль из Оки[3 - Оки (Okies) в США называют жителей штата Оклахома. В 1930-е годы это название приобрело негативный оттенок, будучи применяемо к бедным переселенцам из Оклахомы и соседних с ней штатов.] и засыпая ею Нью-Йорк аж до Сорок второй улицы. Над городом клубились тучи пыли, оседая на газетных стендах и парковых скамейках, окутывая блаженных и проклятых, как пепел Помпеи. У нас вдруг появились собственные настоящие «Джоуды»[4 - Джоуды (Joads) – семейство бедных фермеров из Оклахомы в романе Дж. Стейнбека «Гроздья гнева» (1939).] – плохо одетые, оголодавшие, точно жители осажденного города, они, с трудом волоча ноги, брели по переулкам мимо разожженных в бочках костров, мимо трущоб и ночлежек, ночуя под опорами мостов и медленно, но упорно продвигаясь в сторону внутренних районов Калифорнии, которые были столь же нищими и неспособными выполнить данные людям обещания, как и все остальные штаты. Нищета и бессилие. Голод и безнадежность. И все это продолжалось до тех пор, пока наш путь не осветило знамение грядущей войны.
Да, фотографические портреты людей, сделанные Уолкером Эвансом в 1938–1941 годах скрытой камерой в нью-йоркском метро, безусловно, являли собой «лицо человечества», но это было лишь одно из его лиц, точнее, лицо того его племени, которое было подвергнуто наказанию.
* * *
В нескольких шагах от нас молодая женщина с удовольствием рассматривала развешанные на стенах фотографии. Ей было максимум года двадцать два. Похоже, каждый портрет вызывал у нее приятное удивление – казалось, она находится в портретной галерее старинного замка, где на нее из рам смотрят величественные лица его обитателей, живших невероятно давно. Она даже разрумянилась от волнения, встретившись с могуществом неведомой ей ранее красоты, и я невольно испытала даже некую легкую зависть.
Я-то эти лица помнила так хорошо, словно видела их только вчера. В глазах застарелая усталость и уныние; взгляды, не ищущие и не встречающие сочувствия. Все это было мне даже слишком хорошо знакомо. Я словно вошла в лобби какого-то отеля в совершенно неизвестном мне городе, и, как неожиданно оказалось, его обитатели своей одеждой и манерой держаться были настолько схожи со мной, что мне стало не по себе: я боялась вот-вот наткнуться среди них на кого-то из тех, кого мне видеть совсем не хотелось.
Между прочим, как раз нечто подобное и случилось.
– Это Тинкер Грей, – сказала я, когда Вэл уже перешел к следующей фотографии.
Амор Тоулз
Амор Тоулз. От автора Джентльмена в Москве
«Правила вежливости» – первый роман автора бестселлеров New York Times. Уже продано более одного миллиона копий. Книга принесла колоссальный успех Амору Тоулзу, написавшему впоследствии «Джентльмена в Москве» и «Шоссе Линкольна».
Последний вечер 1937 года. Кэти Контент вместе со своей подругой Ив посещают второсортный джаз-бар Гринвич-Виллидж, чтобы отпраздновать канун Нового года. Пока девушки пытаются разделить оставшиеся у них три доллара, соседний столик занимает обаятельный молодой банкир. Тинкер Грей, так его имя, угощает подруг коктейлем и заводит светский, ни к чему не обязывающий разговор. Так случайная встреча приводит Кэти в высшие круги нью-йоркского общества, где ей не на что будет положиться, кроме ее остроумия и собственного хладнокровия.
ДОЛГОЖДАННОЕ ИЗДАНИЕ ДЕБЮТНОГО РОМАНА АМОРА ТОУЛЗА!
Амор Тоулз
Правила вежливости
Роман
Amor Towles
Rules of Civility
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © Cetology, Inc., 2011
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
Предисловие
Четвертого октября 1966 года мы с Вэлом – нам обоим было тогда уже за пятьдесят – присутствовали на открытии выставки «Много званых» в Музее современного искусства; это была первая выставка фотографических портретов, сделанных Уокером Эвансом[1 - Уокер Эванс (1907–1975) – американский фотограф и государственный деятель, известный как защитник фермерских хозяйств во время Великой депрессии. Название данной выставки взято из Евангелия от Матфея, 22–14: «…Ибо много званых, а мало избранных». (Здесь и далее прим. пер. Примечания автора и редактора оговорены особо.)] скрытой камерой в нью-йоркском метро в конце 1930-х годов.
Выставка явилась событием весьма незаурядным, из разряда тех, которые журналисты, ведущие колонку общественной жизни, называют грандиозными. Мужчины были в смокингах, что как бы перекликалось с черно-белой палитрой фотографий, а женщины – в ярких платьях самой разнообразной длины: от щиколотки до середины бедра. Молодые безработные актеры с безупречно красивыми лицами с ловкостью акробатов подавали на маленьких круглых подносах шампанское. Собственно фотографиями большинство присутствующих почти не интересовались, целиком поглощенные приятной возможностью выйти в свет и развлечься.
Некая молодая особа, явно занимающая в обществе видное положение, была уже изрядно пьяна и, неловко споткнувшись, чуть не сбила меня с ног. Впрочем, в таком состоянии она была здесь далеко не одна. В последнее время даже на официальных приемах стало вполне приемлемым, даже стильным, напиться еще до восьми вечера.
Пожалуй, это не так уж трудно понять. К 50-м годам XX века Америка успела прибрать к рукам чуть ли не весь земной шар, заставив многие страны даже мелочь из карманов вытряхнуть. Европа превратилась в бедную родственницу – сплошные гербы и никаких застолий. А всевозможные неотличимые друг от друга страны Африки, Азии и Южной Америки только-только становились заметны, точно саламандры под солнцем, на картах, развешанных в школьных классах. Правда, где-то еще существовали и коммунисты, но, поскольку Джо Маккарти[2 - Джозеф Маккарти (1908–1957) – сенатор-республиканец крайне правых политических взглядов, сторонник гонки вооружений и «холодной войны». Связанное с ним понятие «маккартизм» является синонимом реакционной политики.] был уже в могиле, а до Луны вообще пока никто не добрался, русские пока что прокрадывались в основном на страницы шпионских романов.
Так что в те времена все мы были в большей или меньшей степени охвачены неким пьянящим чувством. Мы взмывали в вечерние небеса подобно искусственным спутникам и кружили над нашим городом, двигаясь по внеземной орбите на высоте двух миль, снабжаемые энергией за счет падения иностранных валют и хорошо очищенного алкоголя. За обеденным столом мы что-то орали, стремясь перекричать друг друга, а потом тайком уединялись в пустых комнатах с чужими женами и мужьями. Мы пировали с энтузиазмом и невоздержанностью греческих богов, но утром ровно в 6.30 просыпались с ясной головой и прекрасным настроением, готовые вновь приступить к работе за столами из нержавеющей стали, и чувствовали себя при этом кормчими мировой экономики.
Но в тот вечер в центре внимания был вовсе не знаменитый фотограф. В свои шестьдесят с лишним, исхудав от безразличия к пище настолько, что оказался не в состоянии даже смокинг заполнить собственным телом, Эванс выглядел настолько печальным и невыразительным, словно был не художником, а только что вышедшим на пенсию менеджером среднего звена из «Дженерал моторс». Время от времени кто-то нарушал его уединение, чтобы сделать комплимент выставленным работам или высказать некое замечание, но в целом он по четверти часа подряд в полном одиночестве неловко жался в углу точно самая уродливая девушка на танцах.
Нет, глаза всех были прикованы отнюдь не к Эвансу, а к некоему молодому, но уже лысеющему писателю, недавно ставшему настоящей сенсацией, ибо он накатал роман о любовных похождениях и изменах собственной матери. В сопровождении издателя и рекламного агента он с неприятной улыбкой лукавого неофита принимал комплименты от тесного кружка литературных фэнов.
Вэл с любопытством поглядывал на толпу лизоблюдов, старательно вилявших хвостом перед новомодным писателем. Сам он мог с легкостью зарабатывать $ 10 000 в день, ухитрившись, например, слить воедино швейцарский универсальный магазин и американскую ракетостроительную фирму, но за всю жизнь так и не научился понимать, каким образом подобный болтун способен породить вокруг себя такой шухер.
Видимо, рекламный агент был из тех, кто всегда помнит о своем окружении, ибо он, перехватив мой взгляд, дружески помахал мне рукой. Я помахала в ответ, взяла мужа под руку и сказала:
– Пойдем, дорогой. Давай все-таки и на фотографии посмотрим.
Мы прошли в следующий зал, где было уже не так многолюдно, и стали неспешно обходить его по периметру. Почти все снимки представляли собой сделанные в горизонтальной плоскости портреты одного или двух пассажиров сабвея, сидевших рядом и точно напротив фотографа.
Вот спокойный молодой обитатель Гарлема в шутливо сдвинутом набок котелке и с маленькими французскими усиками.
А вот сорокалетний тип в очках, в пальто с меховым воротником и в широкополой шляпе, придающей ему вид бухгалтера из гангстерской фирмы.
Две незамужние девицы из парфюмерного отдела универмага «Мейси» – обеим хорошо за тридцать – имеют весьма кислый вид, явно понимая, что лучшие их годы уже позади, однако брови у обеих подкрашены, а ресницы и вовсе невероятной длины, как говорится «отсюда и до Бронкса».
Тут некий «он»; там некая «она».
Тут молодое лицо, там – старое.
Этот явный щеголь, а тот одет в убогие обноски.
Эти фотографии, хоть и были сняты более двадцати пяти лет назад, никогда раньше на публике не выставлялись. Эванс, по всей видимости, проявлял должное уважение к личному пространству своих «объектов». Подобное предположение, возможно, звучит несколько странно (или даже излишне самоуверенно), если учесть, что фотографировал он этих людей в таком людном месте, как метро. Но стоит увидеть их лица, глядящие на тебя со стены, и сомнения Эванса становятся понятны. Ведь, если честно, на этих фотографиях как бы зафиксированы мгновения абсолютной душевной обнаженности самых разных людей. Погруженные в свои мысли, уверенные в надежности той маски анонимности, какую они всегда надевают во время ежедневных поездок на метро, и абсолютно не подозревая о фотоаппарате, нацеленном прямо на них, почти все «объекты» невольно раскрывают перед другими свое внутреннее «я».
Любой человек, которому приходится дважды в день ездить на метро, чтобы заработать себе на хлеб насущный, знает, как это происходит: ты садишься в вагон с тем же выражением лица, с каким обычно общаешься с коллегами и знакомыми. С этим выражением лица ты прошел через турникет и раздвигающиеся двери вагона, и пассажиры, сидящие там, практически сразу могут сказать, какой ты на самом деле – самоуверенный, дерзкий или, напротив, осторожный; влюбчивый или равнодушный; обеспеченный или живущий на пособие. Но вот ты нашел себе местечко, поезд движется дальше, приходит на одну станцию, на другую, часть пассажиров уже покинула вагон, их место заняли другие люди, вагон уютно, как люлька, покачивается, и постепенно твоя тщательно оберегаемая внешняя оболочка начинает с тебя соскальзывать. Твое супер-эго как бы растворяется, а мысли переключаются на твои личные заботы и мечты, которые ты как бы перебираешь про себя; мало того, ты словно погружаешься в некую благодатную полудрему, внутри которой, кажется, на задний план отступают любые проблемы и заботы, а их место занимают спокойствие и безмолвие космоса.
Такое случается со всеми. Вопрос лишь в том, сколько кому остановок нужно проехать. Некоторым достаточно двух. Другим трех. Остановки мелькают. Шестьдесят восьмая улица. Пятьдесят девятая. Пятьдесят первая. Центральный вокзал Нью-Йорка Гранд-Сентрал. Какое это все-таки огромное облегчение – несколько минут полной свободы от собственного внутреннего стража, когда взгляд утрачивает определенность, а душа обретает то единственное ощущение настоящего покоя, какое дает лишь изоляция от общения с людьми.
Непосвященным, по-моему, этот фотографический обзор должен был доставить немалое удовольствие. Молодые адвокаты, начинающие сотрудники банков и отважные светские девушки, проходя по залам выставки и глядя на эти фотографии, наверняка думали: Как ловко снято! Какая художественная находка! Наконец-то мы видим истинное лицо человечества!
Но для тех из нас, кто был молод в запечатленный на фотографиях период времени, «объекты» мастера выглядели как призраки прошлого.
* * *
1930-е годы…
Каким же мучительным было это десятилетие!
Мне было шестнадцать, когда разразилась Великая депрессия. Я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать: все мои мечты и ожидания, порожденные волшебным блеском двадцатых годов, оказались с легкостью разрушены. Создавалось впечатление, что Депрессия в Америке была запущена специально для того, чтобы дать Манхэттену урок.
После Катастрофы, как часто именуют этот период, вряд ли можно было услышать, как на тротуар со стуком падают тела голодных, и все же в воздухе словно послышалось некое коллективное «ах!», а после этого сразу наступила мертвая тишина, накрывшая город как снежное покрывало. Огни едва мерцали. Музыкальные ансамбли и всевозможные джаз-банды сложили свои инструменты, и толпы людей потихоньку побрели на выход.
Затем преобладающие ветры сменили направление и теперь стали дуть с востока, принося пыль из Оки[3 - Оки (Okies) в США называют жителей штата Оклахома. В 1930-е годы это название приобрело негативный оттенок, будучи применяемо к бедным переселенцам из Оклахомы и соседних с ней штатов.] и засыпая ею Нью-Йорк аж до Сорок второй улицы. Над городом клубились тучи пыли, оседая на газетных стендах и парковых скамейках, окутывая блаженных и проклятых, как пепел Помпеи. У нас вдруг появились собственные настоящие «Джоуды»[4 - Джоуды (Joads) – семейство бедных фермеров из Оклахомы в романе Дж. Стейнбека «Гроздья гнева» (1939).] – плохо одетые, оголодавшие, точно жители осажденного города, они, с трудом волоча ноги, брели по переулкам мимо разожженных в бочках костров, мимо трущоб и ночлежек, ночуя под опорами мостов и медленно, но упорно продвигаясь в сторону внутренних районов Калифорнии, которые были столь же нищими и неспособными выполнить данные людям обещания, как и все остальные штаты. Нищета и бессилие. Голод и безнадежность. И все это продолжалось до тех пор, пока наш путь не осветило знамение грядущей войны.
Да, фотографические портреты людей, сделанные Уолкером Эвансом в 1938–1941 годах скрытой камерой в нью-йоркском метро, безусловно, являли собой «лицо человечества», но это было лишь одно из его лиц, точнее, лицо того его племени, которое было подвергнуто наказанию.
* * *
В нескольких шагах от нас молодая женщина с удовольствием рассматривала развешанные на стенах фотографии. Ей было максимум года двадцать два. Похоже, каждый портрет вызывал у нее приятное удивление – казалось, она находится в портретной галерее старинного замка, где на нее из рам смотрят величественные лица его обитателей, живших невероятно давно. Она даже разрумянилась от волнения, встретившись с могуществом неведомой ей ранее красоты, и я невольно испытала даже некую легкую зависть.
Я-то эти лица помнила так хорошо, словно видела их только вчера. В глазах застарелая усталость и уныние; взгляды, не ищущие и не встречающие сочувствия. Все это было мне даже слишком хорошо знакомо. Я словно вошла в лобби какого-то отеля в совершенно неизвестном мне городе, и, как неожиданно оказалось, его обитатели своей одеждой и манерой держаться были настолько схожи со мной, что мне стало не по себе: я боялась вот-вот наткнуться среди них на кого-то из тех, кого мне видеть совсем не хотелось.
Между прочим, как раз нечто подобное и случилось.
– Это Тинкер Грей, – сказала я, когда Вэл уже перешел к следующей фотографии.