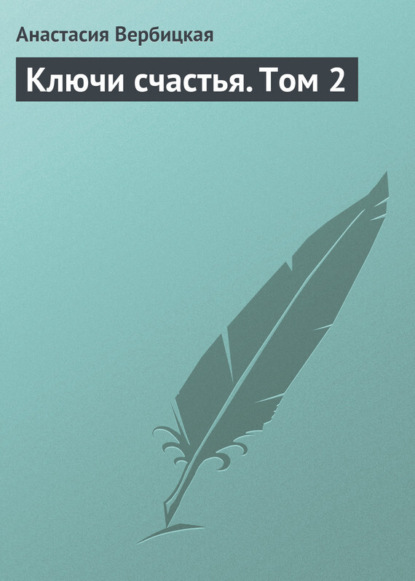По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ключи счастья. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ужас какой! Да она его не разлюбила…»
В этот миг входят Штейнбах и фрау Кеслер. Маня убегает.
Сердце Сони бьется. Хорошо, если он ничего не заметил. «Бедный, бедный Марк!»
Уехали, наконец! Одна…
Маня стоит в кабинете Штейнбаха. Она сняла испанскую шаль, которую подарил ей Марк в Новый год. Это настоящая испанская шаль, желтовато-белого шелка с вытканными на ней алыми цветами и птицами. Бахрома на ней длинная-длинная. Как она расцеловала Марка в тот день, когда он принес ей эту экзотическую вещь!
Сейчас Маня небрежно бросает ее на кресло. Потом подходит и садится на кушетку.
Ах, она устала! Смертельно устала. Добраться бы только домой, вытянуться и лечь. Ах, если бы заснуть хоть в эту ночь!
Она обманула Соню. Иза ее не ждет. Но нет уже силы смеяться, там, на вокзале, казаться беззаботной, говорить фразы, бросать вызов кому-то. Всю эту неделю – бесконечную неделю – она играла роль. А в груди дрожали слезы. И тысячи вопросов теснились в душе. Смолчать хотела – ни о чем не спрашивать. Не выдержала-таки. Позор!
Она падает на кушетку лицом вниз.
О, наконец! Наконец. Кто увидит эти слезы? Пусть льются они! Так тихо в доме. Сумерки падают. Какое счастье, что можно плакать! Она устала. Бороться? Идти вверх? По трудной тропинке карабкаться на вершину, не смея отдохнуть, не смея оглянуться? Ах, этот приезд Сони! Сколько всколыхнул он и разбудил.
Страстно рыдает она. Мучительно и сладко. Словно плотина сорвалась в ее душе, и хлынула, затопляя все вокруг в стихийном стремлении, река ее печали.
Но о чем же эти бурные рыдания?
«Счастливица!» – сказала Соня, целуя ее. Разве сама она не считала себя счастливой еще недавно? Разве не жизнь перед нею? Чего не хватает? Искусство, богатство, слава, любовь – все ждет ее впереди.
О чем же плачет она?
Где-то скрипнула дверь.
Старик вышел из своей комнаты в переднюю и поглядел на вешалку.
Все уехали наконец. Но Сарра тут. Вот ее плащ. Ее зонтик в стойке. Ее шляпа.
Он стоит, прислушиваясь.
Кто-то губами коснулся волос Мани…
Она оглядывается. С криком благодарности обвивает руками шею старика. И плачет на его груди.
Ах, все они такие умные! Все они такие достойные. Но они замучили ее.
Вот этот молчит. Он ничего не требует, ничего не ждет от нее. Но знает все. Он почувствовал, что она несчастна и одинока.
О, прижаться к его груди! Сорвать с лица и с души маску! Стать самой собою! И плакать, плакать, не боясь расспросов, не боясь упреков. Эти милые руки, как они нежны!
Ты ничего не расскажешь, знаю. И эта тайна умрет между нами. Только оба мы выиграем от этой минуты страдания. Ты станешь мне ближе их. Ты, непонятный всем, далекий, с твоей загадочной любовью, с твоей темной душой.
Маня приезжает к Изе, вызванная телеграммой. В передней ее встречает Штейнбах.
– Что случилось?
– Приехал директор театра, где ты будешь дебютировать. Он был на выпускном спектакле, видел «Танец Анитры». Он говорит, что никто не исполнял его так, как ты. Не будь с ним суровой, Маня! Твой успех зависит от него.
Маня входит и сразу видит волнение Изы. Директор встает, идет навстречу Мане и целует ее руку.
Это полнокровный, лысый толстяк с насмешливыми, умными глазами. Он целует ручки у Изы, необыкновенно любезен. И опять-таки из-за его спины обе ослепленные женщины не видят лица Штейнбаха, который искусно ведет свою линию.
– Если mademoiselle Marion будет иметь успех, а я в этом не сомневаюсь, mademoiselle подпишет контракт на тридцать представлений, по тысяче франков за выход.
– Какая противная рожа! – говорит Маня, когда он уезжает. – Он похож на мясника. Разве он любит искусство?
– Какое тебе до этого дело? Ты его любишь. И этого довольно, Marion, какая ты удачливая! Подумать, через что я прошла в твои годы, прежде чем двери такого театра открылись передо мной! Это, конечно, выгоднее, чем турне Нильса.
– Этим я обязана тебе, Иза.
На этот раз креолка задумывается. Словно пелена спадает с ее глаз. Но самолюбие не позволяет ей признаться перед Маней в охвативших ее сомнениях.
Великий день приближается. На всех столбах расклеены громадные афиши, гласящие о дебюте русской босоножки. Тут же и программа: «Сказка моей души» – трилогия.
I. Любовь. Желание. Жизнь.
II. Разочарование. Отчаяние. Смерть.
III. Пробуждение. Новые грезы. Идеал.
Парижане останавливаются перед афишами. Пожимая плечами, они читают эти странные названия.
Не проходит дня, чтобы в какой-нибудь газете хотя бы в двух строках не упоминалось имя Marion. Репортеры восторженно описывают ее внешность, Изу Хименес, ее школу, желтый салон. Сколько их хотело бы проникнуть в школу, на урок! Но Иза Хименес непреклонна.
Креолка упивается этими статьями. Она опьянела от лести.
По вечерам она читает черной Мими вырезки из газет, которые прячет в шкатулку. И улыбается воспоминаниям. Она уже не критикует Маню. Она предоставила ей полную свободу выбора тем и трактовки. Так лучше.
Репетиции начались. И вот тут-то настало мучение для всех. Директор, капельмейстер, Иза, Штейнбах – все страдают от капризов Мани, от странных, неожиданных перемен в ее настроении. Случаются дни, когда после двух-трех попыток она вдруг опускает руки, опускает губы и заявляет деревянным тоном:
– Не могу. Ничего не могу! Я сейчас уезжаю…
Директор хватается за голову…
Почему? Что за капризы! О, если бы она не была любовницей миллионера Штейнбаха!
А дело в том, что в ложах зала, погруженного в полумрак, появились какие-то тени. Мелькнуло белое перо. Послышался сдавленный смех. Это подруга директора прокралась в ложу и привела своих друзей.
– Скажите им, чтоб они ушли, – говорит Маня.
Лицо директора багровеет.
– Нет. Лучше я уйду! Настроение исчезло. Я не могу танцевать.
В этот миг входят Штейнбах и фрау Кеслер. Маня убегает.
Сердце Сони бьется. Хорошо, если он ничего не заметил. «Бедный, бедный Марк!»
Уехали, наконец! Одна…
Маня стоит в кабинете Штейнбаха. Она сняла испанскую шаль, которую подарил ей Марк в Новый год. Это настоящая испанская шаль, желтовато-белого шелка с вытканными на ней алыми цветами и птицами. Бахрома на ней длинная-длинная. Как она расцеловала Марка в тот день, когда он принес ей эту экзотическую вещь!
Сейчас Маня небрежно бросает ее на кресло. Потом подходит и садится на кушетку.
Ах, она устала! Смертельно устала. Добраться бы только домой, вытянуться и лечь. Ах, если бы заснуть хоть в эту ночь!
Она обманула Соню. Иза ее не ждет. Но нет уже силы смеяться, там, на вокзале, казаться беззаботной, говорить фразы, бросать вызов кому-то. Всю эту неделю – бесконечную неделю – она играла роль. А в груди дрожали слезы. И тысячи вопросов теснились в душе. Смолчать хотела – ни о чем не спрашивать. Не выдержала-таки. Позор!
Она падает на кушетку лицом вниз.
О, наконец! Наконец. Кто увидит эти слезы? Пусть льются они! Так тихо в доме. Сумерки падают. Какое счастье, что можно плакать! Она устала. Бороться? Идти вверх? По трудной тропинке карабкаться на вершину, не смея отдохнуть, не смея оглянуться? Ах, этот приезд Сони! Сколько всколыхнул он и разбудил.
Страстно рыдает она. Мучительно и сладко. Словно плотина сорвалась в ее душе, и хлынула, затопляя все вокруг в стихийном стремлении, река ее печали.
Но о чем же эти бурные рыдания?
«Счастливица!» – сказала Соня, целуя ее. Разве сама она не считала себя счастливой еще недавно? Разве не жизнь перед нею? Чего не хватает? Искусство, богатство, слава, любовь – все ждет ее впереди.
О чем же плачет она?
Где-то скрипнула дверь.
Старик вышел из своей комнаты в переднюю и поглядел на вешалку.
Все уехали наконец. Но Сарра тут. Вот ее плащ. Ее зонтик в стойке. Ее шляпа.
Он стоит, прислушиваясь.
Кто-то губами коснулся волос Мани…
Она оглядывается. С криком благодарности обвивает руками шею старика. И плачет на его груди.
Ах, все они такие умные! Все они такие достойные. Но они замучили ее.
Вот этот молчит. Он ничего не требует, ничего не ждет от нее. Но знает все. Он почувствовал, что она несчастна и одинока.
О, прижаться к его груди! Сорвать с лица и с души маску! Стать самой собою! И плакать, плакать, не боясь расспросов, не боясь упреков. Эти милые руки, как они нежны!
Ты ничего не расскажешь, знаю. И эта тайна умрет между нами. Только оба мы выиграем от этой минуты страдания. Ты станешь мне ближе их. Ты, непонятный всем, далекий, с твоей загадочной любовью, с твоей темной душой.
Маня приезжает к Изе, вызванная телеграммой. В передней ее встречает Штейнбах.
– Что случилось?
– Приехал директор театра, где ты будешь дебютировать. Он был на выпускном спектакле, видел «Танец Анитры». Он говорит, что никто не исполнял его так, как ты. Не будь с ним суровой, Маня! Твой успех зависит от него.
Маня входит и сразу видит волнение Изы. Директор встает, идет навстречу Мане и целует ее руку.
Это полнокровный, лысый толстяк с насмешливыми, умными глазами. Он целует ручки у Изы, необыкновенно любезен. И опять-таки из-за его спины обе ослепленные женщины не видят лица Штейнбаха, который искусно ведет свою линию.
– Если mademoiselle Marion будет иметь успех, а я в этом не сомневаюсь, mademoiselle подпишет контракт на тридцать представлений, по тысяче франков за выход.
– Какая противная рожа! – говорит Маня, когда он уезжает. – Он похож на мясника. Разве он любит искусство?
– Какое тебе до этого дело? Ты его любишь. И этого довольно, Marion, какая ты удачливая! Подумать, через что я прошла в твои годы, прежде чем двери такого театра открылись передо мной! Это, конечно, выгоднее, чем турне Нильса.
– Этим я обязана тебе, Иза.
На этот раз креолка задумывается. Словно пелена спадает с ее глаз. Но самолюбие не позволяет ей признаться перед Маней в охвативших ее сомнениях.
Великий день приближается. На всех столбах расклеены громадные афиши, гласящие о дебюте русской босоножки. Тут же и программа: «Сказка моей души» – трилогия.
I. Любовь. Желание. Жизнь.
II. Разочарование. Отчаяние. Смерть.
III. Пробуждение. Новые грезы. Идеал.
Парижане останавливаются перед афишами. Пожимая плечами, они читают эти странные названия.
Не проходит дня, чтобы в какой-нибудь газете хотя бы в двух строках не упоминалось имя Marion. Репортеры восторженно описывают ее внешность, Изу Хименес, ее школу, желтый салон. Сколько их хотело бы проникнуть в школу, на урок! Но Иза Хименес непреклонна.
Креолка упивается этими статьями. Она опьянела от лести.
По вечерам она читает черной Мими вырезки из газет, которые прячет в шкатулку. И улыбается воспоминаниям. Она уже не критикует Маню. Она предоставила ей полную свободу выбора тем и трактовки. Так лучше.
Репетиции начались. И вот тут-то настало мучение для всех. Директор, капельмейстер, Иза, Штейнбах – все страдают от капризов Мани, от странных, неожиданных перемен в ее настроении. Случаются дни, когда после двух-трех попыток она вдруг опускает руки, опускает губы и заявляет деревянным тоном:
– Не могу. Ничего не могу! Я сейчас уезжаю…
Директор хватается за голову…
Почему? Что за капризы! О, если бы она не была любовницей миллионера Штейнбаха!
А дело в том, что в ложах зала, погруженного в полумрак, появились какие-то тени. Мелькнуло белое перо. Послышался сдавленный смех. Это подруга директора прокралась в ложу и привела своих друзей.
– Скажите им, чтоб они ушли, – говорит Маня.
Лицо директора багровеет.
– Нет. Лучше я уйду! Настроение исчезло. Я не могу танцевать.