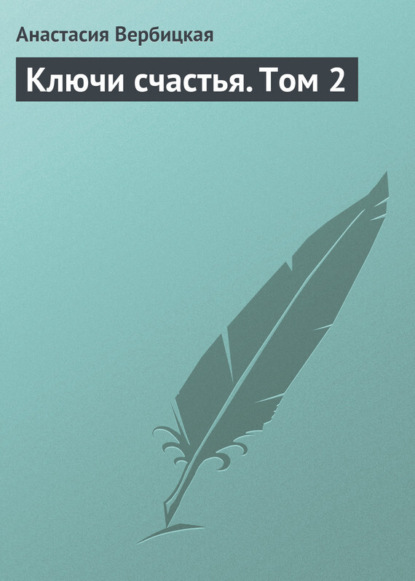По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ключи счастья. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И закрывает глаза. И с закрытыми глазами медленно, как лунатик, идет по сцене, чего-то ожидая, глядя в свою душу, стараясь забыть о чужих и враждебных людях.
Вот… вот… знакомые звуки…
Перекинулся воздушный мост от одного берега к другому. От плоской действительности к стране вымысла. Задрожал и загорелся, как радуга. Ах, радуга над Земмерингом! Во мраке дрожит и переливается воздушный мост. Грезы сходят по нему на землю. Сны обманувшихся. Счастлив тот, кто их видит!
Звуки в оркестре зовут.
Она закружилась по сцене в какой-то медленной, странной, но ритмической пляске, полузакрыв глаза, простирая вперед руки. Волна забвения. Она поднялась… Идет… Сейчас подхватит. И в ней утонет ее страх, ее презрение к себе за этот страх. Утонет все.
Вот она…
Взмахнув руками, с легким криком, Маня понеслась по сцене. И от этого крика вздрогнули нервные люди. Так кричат, падая в бездну. И артисты это почувствовали.
Словно шевельнулся опять живой, притаившийся мрак. Но до сознания Мани это уже не дошло. Манящие, загадочные образы поднимаются на темном фоне.
– Bravo! – срываются крики. Раздаются аплодисменты и гаснут. Но Маня не слышит их.
Вакханалия еще не кончилась. Но идея танца ясна каждому. Это любовь и забвения на празднике Диониса. Чем-то стихийным, безумным веет от ее лица, от взмаха рук, от жестов. Вдруг резкий аккорд, полный диссонанса. Словно струна сорвалась. И Маня внезапно падает на колени, спиной к публике, перегнувшись назад, с раскинутыми руками, касаясь головой земли. Словно нет у нее костей. Лицо мертвенно-бледное. Глаза закрыты. Алые губы улыбаются.
Весь партер поднялся, аплодируя Из лож веют платки.
– Какая сила ног и легких!
– А вы заметили мимику? И эти руки? Они говорят.
Она выпрямилась и стоит неподвижно. Словно просыпается. Сжались тонкие брови. Огромные глаза печально глядят в полумрак. Сердце бьется как птица. Зачем ее разбудили?
Она бежит за кулисы.
На сцене полумрак. Нежные, воздушные, пронизанные бледным солнцем севера плывут звуки Грига. Все ниже спускаются аккорды.
Ах! Она узнает эти призраки утра. Это туман ползет с гор в долину. Все ниже сползает он. И вот открылись пики с вечными снегами.
Она идет. Все выше… выше… Внизу, в долине, звенят колокольчики стад. Звучит чья-то песнь. Сейчас все смолкнет. Исчезнут деревья, исчезнут пчелы. Игрушкой будет казаться долина внизу.
Медленно на носках идет она по сцене, озираясь. Она приложила палец к губам. Тише! Ни песен. Ни шума. Вы слышите священное безмолвие гор? Выше, выше… Жизнь осталась позади, с ее докучными звуками, непонятными в царстве Молчания.
Широкие звуки льются волнами в душу. И душа растет… Ничего кругом. Горы, она и Молчание. Долина исчезла внизу, под туманом.
Разве она любила? Разве она страдала? Разве это она жила там, внизу, слабая и трепещущая перед Вечностью, перед Смертью? Разве это она боролась за счастье и гибла из-за любви?
Алый свет вдруг разлился по сцене. Торжественно, мощно гремят звуки оркестра. Маня закидывает голову, широко открывает объятия. О, неведомый простор! О, свобода души! О, солнце, льющее радость.
Она опускается на колени. В глазах дрожат слезы.
В фойе, в коридорах стоит гул. Группа журналистов окружает пожилого плотного человека, с седеющей бородой, знакомую Парижу фигуру. Так прочувствовать, так передать Morgenstimmung.
– Для этого надо быть поэтом… Что-то мистическое было в ее игре, в глазах ее. Заметьте, после – une vraie artiste[23 - Настоящая артистка (франц.).], – задумчиво говорит знаменитый критик.
Это слово подхватывают репортеры и несут его в толпу.
Иза врывается в уборную и падает Мане на грудь, истерически смеясь.
– Ты меня так напугала, гадкая! Разве артист смеет отказываться? Иметь капризы. Ах ты, безумная Мань-я!
У фрау Кеслер глаза полны слез. А слов совсем нет. Штейнбах тоже молча и горячо целует руки Мани.
– Видишь ты теперь, какая власть у артиста? – говорит Иза. – Я сама слышала, как они смеялись над тобой и ругали. А потом? Ах, Marion, ты не знаешь своей силы! То, что ты пережила нынче, уже не вернется. Это ужасные минуты! Кто из нас их не знает? Но ты привыкнешь. Monsieur Marc так побледнел. Я думала, он упадет. Не правда ли? Как она была прекрасна, monsieur Marc! Но что же ты плясала? Ведь это совсем не то, что мы с тобой репетировали вчера?
– Не знаю, – как во сне отвечает Маня. – Но я рада, что ты хвалишь. Я думала и о тебе…
– Теперь спать, спать, спать! – говорит Иза по дороге домой. – Прими что-нибудь и не думай ни о чем. А завтра лежи весь день с закрытыми шторами, не развлекайся ничем. И пей бром. Надо держать себя вот как! В кулаке. Это великий день, Marion. Всю судьбу твою ты держишь в руках.
– И не ешь ничего, – кричит она уже у подъезда своего дома, когда автомобиль поворачивает назад. – Только чашку бульона и крепкий кофе с коньяком. До завтра!
Она исчезает в подъезде.
Когда фрау Кеслер выходит из автомобиля, Штейнбах оборачивается и крепко обнимает Маню. Он целует ее лицо, ее глаза. Молча, нежно, страстно. О, если б создать ей новую жизнь! Создать ей новый мир. Без унижений и страданий, которыми усеян путь средней женщины. Если б дать ей ключи счастья, о которых говорил Ян!
Знойное небо раскинулось над Малороссией. Полевые работы в разгаре.
Нелидов тоже целый день в поле. Он загорел, помолодел. Твердо по-прежнему глядят серые глаза. Как хорошо, что после долгой праздной зимы приходит лето, требующее всего человека, требующее упорного труда, дней без тоски, ночей без грез, каменного сна…
Теперь, кажется, все наладилось. Пятьдесят тысяч, полученные от бельгийцев, не только дали возможность расплатиться с долгами, но и создали известную обеспеченность. Положим, немало пришлось затратить на свадьбу. Разорившиеся Лизогубы ничего не могли дать за дочерью. Да он и не думал об этом. Больше всего денег ушло на свадебное путешествие и на развлечения в Москве и в Петербурге. Пришлось ради Кати круто изменить жизнь. Принимать гостей, выезжать самим. Но и эти траты не страшны теперь, когда есть на что опереться.
Больше всего его радует строительство дома. К октябрю он его закончит. День за днем следил он за ростом здания, полюбил каждый кирпич в нем. Какой-то символ кроется в его страстной привязанности к этим стенам. Точно укрыться хочет он в них от мрака прошлого. Зажечь огни. Затопить печи. Согреть тело и душу. В новом доме начнется новая жизнь. Его жена войдет хозяйкой в этот дом. Его дети будут бегать по дорожкам парка. И тогда все минувшее покажется сном. Он скажет себе тогда: «Я счастлив…»
Под вечер он стоит у смолкнувшей жнейки. Работы закончены. Доверху полны снопами громадные телеги, запряженные каждая парой крупных волов. Сейчас тронутся. Хорош урожай в этом году!
Нелидов смотрит на небо. Солнце село в тучу, и она медленно растет, по краям окаймленная золотом. Пурпурные длинные пальцы вырвались из-за ее хребта и протянулись по небу. Заалели облака на востоке. Пожаром заката облито поле, лица женщин, белые плахты, важные морды волов. Даже на землю пали красные блики. Барометр опускается с утра. Как хорошо, что он поторопился с уборкой! Наверно, еще до ночи будет гроза…
Вдали раздается топот. Он смотрит, приложив руку щитком над глазами. Кто-то скачет верхом из усадьбы. Случилось что-нибудь? Мама? Катя?
Он бежит к своей лошади. Она привязана вдали, у одинокого грушевого деревца.
– Что? Что? – с побелевшими губами кричит он. И машет рукой гонцу.
– Барыня… молодая барыня… Анна Львовна за вами послали…
«Так скоро? Неужели сейчас?»
Как хорошо в лесу утром! Париж встает рано. И по всем направлениям едут амазонки, ландо и автомобили. Но Маня знает уединенные аллеи, где не перед кем позировать и красоваться тем, кто в эти часы назначает свидания в лесу, кто ждет флирта и приключений.
Сидя на скамейке, в тени каштанов, Маня говорит себе: «Нынче я никто. А завтра обо мне будет говорить Париж. Что говорить? Не знаю. Боюсь ли я? Конечно. А если успех? Марк пошлет газеты Соне. Та напишет матери в Лысогоры. Как далеко! Точно на том свете. Дядюшка запряжет лошадь и поедет в Дубки. И за чайным столом прочтет перед Нелидовым и его женою о моем дебюте…»
И только когда день погас, Маня задрожала перед Неизвестностью.
На шоссе запел автомобиль.
Вот… вот… знакомые звуки…
Перекинулся воздушный мост от одного берега к другому. От плоской действительности к стране вымысла. Задрожал и загорелся, как радуга. Ах, радуга над Земмерингом! Во мраке дрожит и переливается воздушный мост. Грезы сходят по нему на землю. Сны обманувшихся. Счастлив тот, кто их видит!
Звуки в оркестре зовут.
Она закружилась по сцене в какой-то медленной, странной, но ритмической пляске, полузакрыв глаза, простирая вперед руки. Волна забвения. Она поднялась… Идет… Сейчас подхватит. И в ней утонет ее страх, ее презрение к себе за этот страх. Утонет все.
Вот она…
Взмахнув руками, с легким криком, Маня понеслась по сцене. И от этого крика вздрогнули нервные люди. Так кричат, падая в бездну. И артисты это почувствовали.
Словно шевельнулся опять живой, притаившийся мрак. Но до сознания Мани это уже не дошло. Манящие, загадочные образы поднимаются на темном фоне.
– Bravo! – срываются крики. Раздаются аплодисменты и гаснут. Но Маня не слышит их.
Вакханалия еще не кончилась. Но идея танца ясна каждому. Это любовь и забвения на празднике Диониса. Чем-то стихийным, безумным веет от ее лица, от взмаха рук, от жестов. Вдруг резкий аккорд, полный диссонанса. Словно струна сорвалась. И Маня внезапно падает на колени, спиной к публике, перегнувшись назад, с раскинутыми руками, касаясь головой земли. Словно нет у нее костей. Лицо мертвенно-бледное. Глаза закрыты. Алые губы улыбаются.
Весь партер поднялся, аплодируя Из лож веют платки.
– Какая сила ног и легких!
– А вы заметили мимику? И эти руки? Они говорят.
Она выпрямилась и стоит неподвижно. Словно просыпается. Сжались тонкие брови. Огромные глаза печально глядят в полумрак. Сердце бьется как птица. Зачем ее разбудили?
Она бежит за кулисы.
На сцене полумрак. Нежные, воздушные, пронизанные бледным солнцем севера плывут звуки Грига. Все ниже спускаются аккорды.
Ах! Она узнает эти призраки утра. Это туман ползет с гор в долину. Все ниже сползает он. И вот открылись пики с вечными снегами.
Она идет. Все выше… выше… Внизу, в долине, звенят колокольчики стад. Звучит чья-то песнь. Сейчас все смолкнет. Исчезнут деревья, исчезнут пчелы. Игрушкой будет казаться долина внизу.
Медленно на носках идет она по сцене, озираясь. Она приложила палец к губам. Тише! Ни песен. Ни шума. Вы слышите священное безмолвие гор? Выше, выше… Жизнь осталась позади, с ее докучными звуками, непонятными в царстве Молчания.
Широкие звуки льются волнами в душу. И душа растет… Ничего кругом. Горы, она и Молчание. Долина исчезла внизу, под туманом.
Разве она любила? Разве она страдала? Разве это она жила там, внизу, слабая и трепещущая перед Вечностью, перед Смертью? Разве это она боролась за счастье и гибла из-за любви?
Алый свет вдруг разлился по сцене. Торжественно, мощно гремят звуки оркестра. Маня закидывает голову, широко открывает объятия. О, неведомый простор! О, свобода души! О, солнце, льющее радость.
Она опускается на колени. В глазах дрожат слезы.
В фойе, в коридорах стоит гул. Группа журналистов окружает пожилого плотного человека, с седеющей бородой, знакомую Парижу фигуру. Так прочувствовать, так передать Morgenstimmung.
– Для этого надо быть поэтом… Что-то мистическое было в ее игре, в глазах ее. Заметьте, после – une vraie artiste[23 - Настоящая артистка (франц.).], – задумчиво говорит знаменитый критик.
Это слово подхватывают репортеры и несут его в толпу.
Иза врывается в уборную и падает Мане на грудь, истерически смеясь.
– Ты меня так напугала, гадкая! Разве артист смеет отказываться? Иметь капризы. Ах ты, безумная Мань-я!
У фрау Кеслер глаза полны слез. А слов совсем нет. Штейнбах тоже молча и горячо целует руки Мани.
– Видишь ты теперь, какая власть у артиста? – говорит Иза. – Я сама слышала, как они смеялись над тобой и ругали. А потом? Ах, Marion, ты не знаешь своей силы! То, что ты пережила нынче, уже не вернется. Это ужасные минуты! Кто из нас их не знает? Но ты привыкнешь. Monsieur Marc так побледнел. Я думала, он упадет. Не правда ли? Как она была прекрасна, monsieur Marc! Но что же ты плясала? Ведь это совсем не то, что мы с тобой репетировали вчера?
– Не знаю, – как во сне отвечает Маня. – Но я рада, что ты хвалишь. Я думала и о тебе…
– Теперь спать, спать, спать! – говорит Иза по дороге домой. – Прими что-нибудь и не думай ни о чем. А завтра лежи весь день с закрытыми шторами, не развлекайся ничем. И пей бром. Надо держать себя вот как! В кулаке. Это великий день, Marion. Всю судьбу твою ты держишь в руках.
– И не ешь ничего, – кричит она уже у подъезда своего дома, когда автомобиль поворачивает назад. – Только чашку бульона и крепкий кофе с коньяком. До завтра!
Она исчезает в подъезде.
Когда фрау Кеслер выходит из автомобиля, Штейнбах оборачивается и крепко обнимает Маню. Он целует ее лицо, ее глаза. Молча, нежно, страстно. О, если б создать ей новую жизнь! Создать ей новый мир. Без унижений и страданий, которыми усеян путь средней женщины. Если б дать ей ключи счастья, о которых говорил Ян!
Знойное небо раскинулось над Малороссией. Полевые работы в разгаре.
Нелидов тоже целый день в поле. Он загорел, помолодел. Твердо по-прежнему глядят серые глаза. Как хорошо, что после долгой праздной зимы приходит лето, требующее всего человека, требующее упорного труда, дней без тоски, ночей без грез, каменного сна…
Теперь, кажется, все наладилось. Пятьдесят тысяч, полученные от бельгийцев, не только дали возможность расплатиться с долгами, но и создали известную обеспеченность. Положим, немало пришлось затратить на свадьбу. Разорившиеся Лизогубы ничего не могли дать за дочерью. Да он и не думал об этом. Больше всего денег ушло на свадебное путешествие и на развлечения в Москве и в Петербурге. Пришлось ради Кати круто изменить жизнь. Принимать гостей, выезжать самим. Но и эти траты не страшны теперь, когда есть на что опереться.
Больше всего его радует строительство дома. К октябрю он его закончит. День за днем следил он за ростом здания, полюбил каждый кирпич в нем. Какой-то символ кроется в его страстной привязанности к этим стенам. Точно укрыться хочет он в них от мрака прошлого. Зажечь огни. Затопить печи. Согреть тело и душу. В новом доме начнется новая жизнь. Его жена войдет хозяйкой в этот дом. Его дети будут бегать по дорожкам парка. И тогда все минувшее покажется сном. Он скажет себе тогда: «Я счастлив…»
Под вечер он стоит у смолкнувшей жнейки. Работы закончены. Доверху полны снопами громадные телеги, запряженные каждая парой крупных волов. Сейчас тронутся. Хорош урожай в этом году!
Нелидов смотрит на небо. Солнце село в тучу, и она медленно растет, по краям окаймленная золотом. Пурпурные длинные пальцы вырвались из-за ее хребта и протянулись по небу. Заалели облака на востоке. Пожаром заката облито поле, лица женщин, белые плахты, важные морды волов. Даже на землю пали красные блики. Барометр опускается с утра. Как хорошо, что он поторопился с уборкой! Наверно, еще до ночи будет гроза…
Вдали раздается топот. Он смотрит, приложив руку щитком над глазами. Кто-то скачет верхом из усадьбы. Случилось что-нибудь? Мама? Катя?
Он бежит к своей лошади. Она привязана вдали, у одинокого грушевого деревца.
– Что? Что? – с побелевшими губами кричит он. И машет рукой гонцу.
– Барыня… молодая барыня… Анна Львовна за вами послали…
«Так скоро? Неужели сейчас?»
Как хорошо в лесу утром! Париж встает рано. И по всем направлениям едут амазонки, ландо и автомобили. Но Маня знает уединенные аллеи, где не перед кем позировать и красоваться тем, кто в эти часы назначает свидания в лесу, кто ждет флирта и приключений.
Сидя на скамейке, в тени каштанов, Маня говорит себе: «Нынче я никто. А завтра обо мне будет говорить Париж. Что говорить? Не знаю. Боюсь ли я? Конечно. А если успех? Марк пошлет газеты Соне. Та напишет матери в Лысогоры. Как далеко! Точно на том свете. Дядюшка запряжет лошадь и поедет в Дубки. И за чайным столом прочтет перед Нелидовым и его женою о моем дебюте…»
И только когда день погас, Маня задрожала перед Неизвестностью.
На шоссе запел автомобиль.