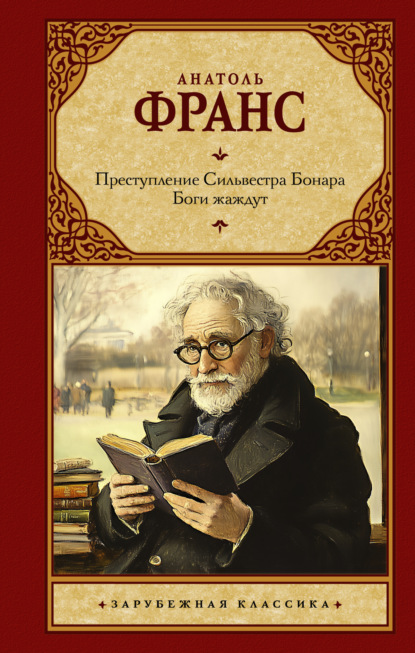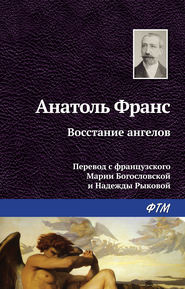По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тереза потупила глаза и отвечала:
– Хоть я и не была, что называется, хорошенькой, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась. И кабы захотела, могла бы поступить как прочие.
– Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу. А я для отдыха прочту несколько страниц из Морери. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед тонко пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина.
Сказав, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии.
7 мая 1863 года
Зиму провел я в духе мудрецов – in angello cum libello[2 - В уголке и с книжкой (лат.).]; ласточки с набережной Малакэ по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется, а тратить дни свои на старые тексты – это еще не жизнь.
Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какою веет сама жизнь. Равновесие моего ума (не смею в том признаться и самому себе) нарушено со знаменательного часа, когда открылось мне, что существует рукопись Жана Тумуйе. Странно, из-за нескольких листков старого пергамента утрачен мой покой; но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ: он обладает самим собою. Богач, желающий все большего, – жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия – беседа с человеком тонкого и сдержанного ума или обеды с другом – не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с того момента, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни в радости, ни в горе; не хватает ни в труде, ни в отдохновении.
Невольно вспоминаю свое детство: как мне теперь понятны всемогущие желанья первых моих лет!
С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной лавчонке на улице Сены, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, – не знаю. Я горд был тем, что я был мальчик; я презирал девчонок и с нетерпеньем ждал поры (увы! наставшей), когда колючая бородка защетинит мой подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на своем окне. То были мужские игры, думается мне.
Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости у Геркулесов! Но кукла, что полюбилась мне, была ли все-таки красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой: на щеках по красному пятну, короткие, дряблые, с ужасными деревянными кистями руки и длинные раздвинутые ноги. Цветастая юбка приколота к талии двумя булавками; вижу еще теперь их черные головки. То была кукла дурного тона, отдававшая предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле не было изящества и вида, что она груба, топорна. Но, несмотря на это, я любил ее, – любил как раз за это. Любил только ее. Мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не пихал своей лошадке в рот стебельков гелиотропа и вероники. Эта кукла была всем для меня. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виржини пройти со мною мимо лавки на улице Сены, и там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку: «Господин Сильвестр, уж поздно, и маменька вас забранит». В то время г-ну Сильвестру и брань и порка были нипочем. Но нянька поднимала его как перышко, и г-н Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего.
Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне открыться матери в предмете моей любви. Отсюда все мои страданья. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятья, и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым – более желанной, дорогой.
Наконец, в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался моим дядей капитаном оттого, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд, и оттого, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красивым. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками с брандебурами, а особенно своим уменьем ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек – было видно и слышно одного его. Мой удивительный отец не разделял, мне кажется, моего восхищения дядей Виктором, который отравлял его своею трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя, при всей сестринской снисходительности к капитану, иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой. Но я был чужд всем этим недовольствам и упрекам: мне дядя Виктор внушал живой восторг. И с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей.
Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих жертвою он стал, и выражал особенное недовольство Бурбонами, но упустил сказать мне, кто были Бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что Бурбоны – это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но ненавистных от всей души. За сладким мне послышалось, что капитан высказывался о моем отце как о человеке, которого водили за нос; но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах моих шумело, и мне мерещилось, что столик танцевал.
Дядя надел сюртук с брандебурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно изменившуюся на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на улице Сены, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайную восторженность. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки; кукла была все там же за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами и в той же цветастой юбке.
– Дядя, – промолвил я с усилием, – не купите ли вы мне эту куклу?
И в ожидании остановился.
– Купить мальчишке куклу, черт возьми! – громовым голосом воскликнул дядя. – Ты хочешь осрамить себя! И это страстное желание вызвала в тебе такая баба! Поздравляю тебя, дружище! Если эти вкусы сохранятся у тебя и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю – мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих ты прослывешь изрядным простофилей. Проси у меня саблю, ружье – я их куплю тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу, тысяча громов! Покрыть тебя позором! Никогда в жизни! Если б я увидал, что ты играешь расфуфыренной таким манером девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником.
От его слов так сжалось мое сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость не позволяла мне заплакать.
Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о Бурбонах, но я так и остался придавленный его негодованьем, чувствуя невыразимый стыд. Мое решенье созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести: я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. Я в этот день познал суровую отраду жертвы.
Капитан, если и правда, что при жизни вы ругались, как язычник, курили, как швейцарец, и пили, как звонарь, да будет все-таки почтенна ваша память, – не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, но под брандебурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно даримый вами продавщицам в магазинах, этот цветок, с его открытым благородным сердцем и облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя учиться, капитан, ни тонким чувствам, ни здравому рассудку, но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чести, чего я не забуду никогда.
Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромною плитою с эпитафией:
ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН АРИСТИД-ВИКТОР МАЛЬДЕН,
ПЕХОТНЫЙ КАПИТАН И КАВАЛЕР
Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, посетившей столько полей сраженья и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить на могильном камне:
ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
ЛУАРСКИЙ РАЗБОЙНИК
– Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника.
Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских Полей? Там, у конца аллеи, рисуется на фоне неба гигантский пролет Триумфальной арки, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные и зябкие листочки. Сбоку от меня катятся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимоном. Мальчик-нищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотья теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желанье он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза уставились на большого пряничного человечка. Это – генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке, но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременной опытностью – не верить в счастье; он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: «С вашей стороны жестоко смеяться надо мной».
– Ну, глупыш, – сказал я своим обычным ворчливым тоном, – бери, бери и ешь; ты счастливее, чем я был в твои годы; ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестья.
А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть мою новую куклу. Мы – вечные дети и вечно тянемся за новою игрушкой.
В тот же день
В моем уме семейство Кокоз причудливейшим образом сочеталось с «лириком Жаном Тумуйе.
– Вот что, Тереза, – начал я, бросаясь в свое кресло, – расскажите мне, здоров ли маленький Кокоз, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мои туфли.
– Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. В первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из-под помады. Ну мыслимое ли это дело! За последнее время у ней бывали посетители; и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница привратницы сказывала, что повстречалась с Кокозшей где-то на Бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо.
– Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни. Остерегайтесь чрезмерной болтовни с привратницей. Госпожу Кокоз я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть.
– Правда – по этой части малыш был не обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек, с самого утра поет ему песенки, а он смеется.
– Тереза, один поэт сказал: «Ребенок, не видевший улыбки матери, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь».
8 июля 1863 года
Узнав о ремонте каменного настила в часовне Богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, в надежде разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими. И не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел вполголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце:
Здесь покоится инок обители сей Жан Тумуйе,
сотворивый оклад серебрян на браду
святого Винцента и святого Аманта
и на нози младенцев, невинно убиенных.
Живу сущу бысть муж честен и храбр.
Творите молитву по душе его.
Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие; мне хотелось его поцеловать.
– Он, он, Жан Тумуйе! – воскликнул я. И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову.
Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой.
А все же это мой Жан Тумуйе! Нет более сомненья: переводчик Златой легенды, автор житий святых Жермена, Винцента, Фереоля, Феруция и Дроктовея был, как я и думал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре. И каким еще хорошим монахом – щедрым и благочестивым! Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его твореньем, или суждено и этому открытию только умножить мои скорби?
20 августа 1869 года