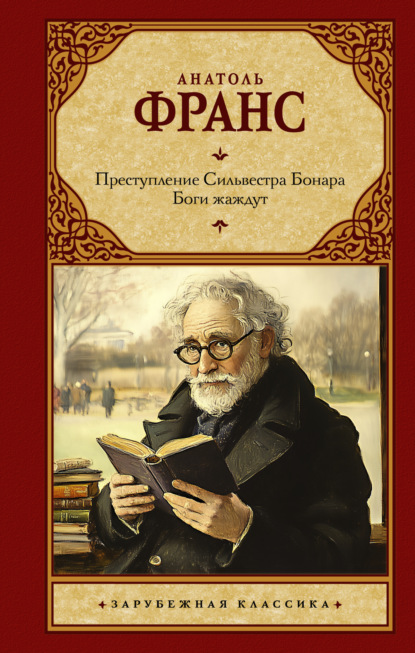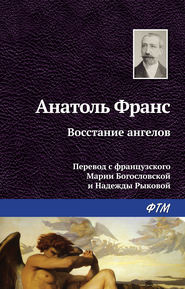По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полицци, разумеется, мошенник, сын его – такой же. Но что они замыслили? Я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным.
Легкий шаг и шелест платья заставили меня поднять глаза, и я увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:
– Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила! Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!
Когда она произносила это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнули улыбка и слеза. Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.
– Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.
И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, украшенный сине-красной головой, – судя по надписи, головою Эмпедокла.
– Вижу, вижу. Но мерзостный Полицци, – не советую вам посылать к нему господина Трепова, – навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.
– Это некрасиво, – промолвила она, – но это редко. Таких коробков нельзя найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.
– Конечно, вижу, – ответил я с досадой, – зато я свое время потерял и не нашел того, за чем приехал в такую даль.
Видимо, она заинтересовалась моею неудачей.
– У вас какая-нибудь неприятность? – спросила она с участием. – Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?
Я стал рассказывать. Мое повествованье было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелочных вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.
Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, что поручил мне мерзкий Микель-Анджело Полицци.
Иной раз бывает трудно остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.
– Почему вы смеетесь? – спросил я.
– Потому что я злая женщина.
И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.
Париж, 8 декабря 1869 года
Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет, – а одного его достаточно, чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с тревогой, жалостью и благоволеньем. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни. Мне пришел на память стих старого поэта:
Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил.
«Ну что ж, – мне думалось, – я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но, так же как Улисс, я совершил прекрасный путь».
Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась нового отъезда. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.
Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень, – одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил усмотреть лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старых картин, хотя подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины: кувшины, кубки, кинжалы, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.
На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра, открытый на листе с изображением Астрологии; старик Витрувий раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить мое недоверие, но сама фамилия – Полицци – внушала мне такое недоверие, какое не могло уже расти, став безграничным.
Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, кем-то вроде англичанина. Он даже в малой доле не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.
Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне хотелось.
Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.
Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, это рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Якова Ворагинского в ней было заметно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея, – я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи являлось неоспоримо подлинным. Два изображения – «Сретенья Господня» и «Венчанья Прозерпины» – отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор приобрели вновь свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе – вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что были способны уловить мои глаза.
Приняв равнодушный вид, я спросил у Рафаэлло о цене рукописи и, в ожидании ответа, молил судьбу, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой вещью он располагать не может, так как она больше не его и назначена к продаже на аукционе в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами.
То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто в этом роде:
– Вы удивляете меня. Я видел вашего отца не так давно в Джирдженти, и он меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.
– Действительно, я был им, – ответил совершенно просто Рафаэлло, – но я уже больше не владелец. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне говорить его фамилию, а теперь, по причинам, тоже требующим моего молчания, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть 24 декабря сего года. Если вы пожелаете дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание Златой легенды вы найдете под номером сорок вторым.
Я дал свой адрес и ушел.
Приличная степенность сына не нравилась мне совершенно так же, как непристойное кривляние его отца. В глубине души я проклинал ухищренья этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы избегнуть нареканий, если нарочно взвинтят цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, но не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через мостовую, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло узнал княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.
«Пусть, – сказал себе я, – она найдет то, что ищет, или, вернее, что ей годится. Вот мое желанье в отплату за тот жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы».
И, грустный, я добрался до мостов.
Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, довела нас и до 24 декабря. Я отправился в Отель-Бюйон и занял место в зале № 4, у самого стола, где предстояло сидеть эксперту Полицци и присяжному оценщику Булузу. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым книготорговцам с набережных, но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня замалчивать причину моего необычного присутствия в Отель-Бюйон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полицци, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не моем.
Заинтересованные и любопытные мало-помалу наполнили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь для составления отчета, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители при зале выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.
Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание «Preces piae»[8 - «Благочестивые наставления», сборник проповедей (лат.).] с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.
Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед барахольщики, ждавшие, когда для них откроют соседний зал, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста.
Великолепный сборник «Иудейской войны» вновь оживил внимание. Сборник оспаривали долго. «Пять тысяч франков, пять тысяч», – объявил аукционист среди молчания изумленных барахольщиков. Семь или восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.
Наконец эксперт Полицци выложил на стол и номер сорок два: Златая легенда, французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка – три тысячи франков.
– Три тысячи! Три тысячи! – взвизгнул аукционист.
– Три тысячи, – сухо повторил присяжный оценщик. В висках моих гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывалось к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.
– Три тысячи пятьдесят! – произнес я.
Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.
– Три тысячи пятьдесят справа! – крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.
– Три тысячи сто! – перебил Полицци.
Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.
– Три тысячи пятьсот!
Легкий шаг и шелест платья заставили меня поднять глаза, и я увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:
– Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила! Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!
Когда она произносила это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнули улыбка и слеза. Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.
– Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.
И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, украшенный сине-красной головой, – судя по надписи, головою Эмпедокла.
– Вижу, вижу. Но мерзостный Полицци, – не советую вам посылать к нему господина Трепова, – навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.
– Это некрасиво, – промолвила она, – но это редко. Таких коробков нельзя найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.
– Конечно, вижу, – ответил я с досадой, – зато я свое время потерял и не нашел того, за чем приехал в такую даль.
Видимо, она заинтересовалась моею неудачей.
– У вас какая-нибудь неприятность? – спросила она с участием. – Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?
Я стал рассказывать. Мое повествованье было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелочных вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.
Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, что поручил мне мерзкий Микель-Анджело Полицци.
Иной раз бывает трудно остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.
– Почему вы смеетесь? – спросил я.
– Потому что я злая женщина.
И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.
Париж, 8 декабря 1869 года
Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет, – а одного его достаточно, чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с тревогой, жалостью и благоволеньем. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни. Мне пришел на память стих старого поэта:
Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил.
«Ну что ж, – мне думалось, – я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но, так же как Улисс, я совершил прекрасный путь».
Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась нового отъезда. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.
Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень, – одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил усмотреть лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старых картин, хотя подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины: кувшины, кубки, кинжалы, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.
На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра, открытый на листе с изображением Астрологии; старик Витрувий раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить мое недоверие, но сама фамилия – Полицци – внушала мне такое недоверие, какое не могло уже расти, став безграничным.
Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, кем-то вроде англичанина. Он даже в малой доле не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.
Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне хотелось.
Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.
Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, это рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Якова Ворагинского в ней было заметно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея, – я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи являлось неоспоримо подлинным. Два изображения – «Сретенья Господня» и «Венчанья Прозерпины» – отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор приобрели вновь свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе – вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что были способны уловить мои глаза.
Приняв равнодушный вид, я спросил у Рафаэлло о цене рукописи и, в ожидании ответа, молил судьбу, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой вещью он располагать не может, так как она больше не его и назначена к продаже на аукционе в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами.
То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто в этом роде:
– Вы удивляете меня. Я видел вашего отца не так давно в Джирдженти, и он меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.
– Действительно, я был им, – ответил совершенно просто Рафаэлло, – но я уже больше не владелец. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне говорить его фамилию, а теперь, по причинам, тоже требующим моего молчания, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть 24 декабря сего года. Если вы пожелаете дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание Златой легенды вы найдете под номером сорок вторым.
Я дал свой адрес и ушел.
Приличная степенность сына не нравилась мне совершенно так же, как непристойное кривляние его отца. В глубине души я проклинал ухищренья этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы избегнуть нареканий, если нарочно взвинтят цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, но не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через мостовую, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло узнал княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.
«Пусть, – сказал себе я, – она найдет то, что ищет, или, вернее, что ей годится. Вот мое желанье в отплату за тот жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы».
И, грустный, я добрался до мостов.
Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, довела нас и до 24 декабря. Я отправился в Отель-Бюйон и занял место в зале № 4, у самого стола, где предстояло сидеть эксперту Полицци и присяжному оценщику Булузу. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым книготорговцам с набережных, но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня замалчивать причину моего необычного присутствия в Отель-Бюйон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полицци, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не моем.
Заинтересованные и любопытные мало-помалу наполнили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь для составления отчета, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители при зале выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.
Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание «Preces piae»[8 - «Благочестивые наставления», сборник проповедей (лат.).] с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.
Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед барахольщики, ждавшие, когда для них откроют соседний зал, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста.
Великолепный сборник «Иудейской войны» вновь оживил внимание. Сборник оспаривали долго. «Пять тысяч франков, пять тысяч», – объявил аукционист среди молчания изумленных барахольщиков. Семь или восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.
Наконец эксперт Полицци выложил на стол и номер сорок два: Златая легенда, французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка – три тысячи франков.
– Три тысячи! Три тысячи! – взвизгнул аукционист.
– Три тысячи, – сухо повторил присяжный оценщик. В висках моих гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывалось к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.
– Три тысячи пятьдесят! – произнес я.
Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.
– Три тысячи пятьдесят справа! – крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.
– Три тысячи сто! – перебил Полицци.
Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.
– Три тысячи пятьсот!