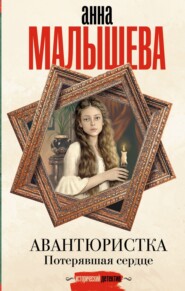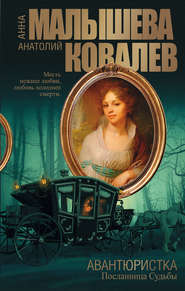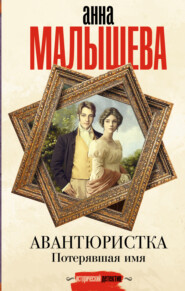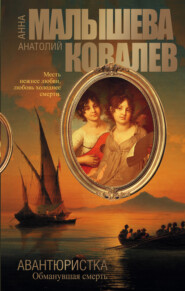По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потерявшая сердце
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не пущают, – грустно подтвердил Афанасий.
– А за какой надобностью тебе во дворец-то? – хитро прищурив один глаз, поинтересовался старик.
– Хотел до матушки-императрицы дойти, – не стал кривить душой бывший колодник и, махнув рукой, с досадой добавил: – Да куда там!
– Эгей, братец, – подмигнул ему старик, – к Марье Федоровне нынче многие норовят попасть. Государь-то в отъезде. Энто дело не простое, – погрозил он кому-то корявым пальцем и строго пояснил: – Без знакомств – вовсе невозможное.
– Да где же мне, простому человеку, их заиметь, эти знакомства?
– Энто как раз можно. – Старик напустил на себя важный вид. – Вот я, к примеру, лично знаком с Марьей Федоровной. Поставляю к ее императорскому столу пескарьков да подлещиков. И супруга ее покойного, государя Павла Петровича, царство ему небесное, тоже знавал в свое время. Павел Петрович дюже охоч был до мелкой простой рыбешки, ушицу из нее любил. Принесу я во дворец ведро, а он выйдет, сам всему улову смотр произведет, кажной рыбешке. Говаривал мне, бывало: «Ну, Митрич, ох и уважил! Знатная будет уха!» Теперь-то здеся рыбы повывелись, настоящей рыбалки нет… Не-ет! – протяжно закончил старик, с неудовольствием косясь на щучку в ведре, которая замерла, шевеля плавниками, будто слушая его рассказ.
– Так ты, Митрич, проведи меня во дворец, – ухватился за последнюю надежду Афанасий, – а уж я в долгу не останусь.
– Погоди маленько, братец, вот охрану сымут, тогда и проведу.
– То есть как, «охрану сымут»? – удивился Афанасий.
– Солдатиков сюда пригнали, как война началась, – пояснил старик. – А нынче что им тут делать, когда хфранцуз бит-перебит? Их бы и раньше по казармам распустили, да вот вздумалось Марье Федоровне устроить бал-маскерад с фейерверхами. Солдатики делают строения всякие в парке да пушки маскируют в кустах. Даже меня не пущают, – с досадой добавил он, – дабы секретов их до поры до времени не выведал.
– И когда же состоится этот бал?
– Через неделю, слыхать. Потом охрану сымут. Нечего им тут делать, когда хфранцуз бит-перебит…
Дед, подобно старой шарманке, у которой осталась только одна заунывная мелодия, начал бы рассказ сызнова, но Афанасий его уже не слушал. Он вдохнул полной грудью воздух, теплый, почти летний, пахнущий далекими цветами, и улыбнулся своим мыслям.
На другое утро, за самоваром, Афанасий, осторожно отпивая из блюдца горячий чай, поведал сестре и юной графине о своих похождениях в Павловске. Елена в это утро казалась особенно бледной и время от времени брезгливо морщилась. И Зинаида, и Афанасий уже догадывались, что девушку гложет какая-то болезнь. Ведь ее перевели в другую комнату, где не пахло ни ваксой, ни табаком, но юную графиню выворачивало по утрам пуще прежнего. Елена медленно размешивала ложечкой чай, а потом никак не решалась поднести чашку к губам.
– Думаю, надо подождать, когда снимут охрану дворца, – подытожил свой рассказ Афанасий, – всего какую-нибудь неделю.
– Неделю слишком долго, – неожиданно вмешалась Зинаида. – К тому же императрица может после бала уехать куда-нибудь, например, к сыну в Германию. Она ведь наверняка соскучилась по нему. И тогда весь ваш план коту под хвост!
– Об этом я ничего не знаю, – растерялся Афанасий, – но могу узнать.
– Нужно действовать немедленно, если хотите чего-то добиться, – настаивала Зинаида.
– Ты не представляешь, сколько там солдат. Мы не сможем пробраться во дворец незамеченными…
– А во время бала? – тихо спросила Елена. – Во время бала, в суете, под покровом ночи?..
– Над этим надо покумекать, – задумался вслух бывший разбойник. – Солдаты будут заняты фейерверками, офицеры, могу ручаться, перепьются. Сама императрица будет в хорошем расположении духа. Я раздобуду у деда Митрича лодку, и мы приплывем в парк по реке. Да вы просто умница, Елена Денисовна! – радостно воскликнул он.
Елена слабо улыбнулась и наконец решилась поднести чашку к губам, но, сделав глоток, в тот же миг закрыла руками рот, вскочила и выбежала.
– Не знаю, что делать, братец, – нахмурилась Зинаида. – Графиня больна. Ее надо показать доктору.
– У тебя есть знакомый доктор?
– Теодор Шулле. Он здесь считается лучшим.
– Опять немец! – возмутился Афанасий. – Вокруг тебя одни немцы!
– На Васильевском каждый второй немец, – пожала плечами она. – Да разве в этом загвоздка?
– А в чем?
– Как ты не понимаешь, братец? Если я позову доктора, на следующий день сюда явится квартальный с проверкой. Какие такие гости поселились у меня?
– Квартальный все равно что нож под дых, – согласился он, – этого зверя лучше обходить стороной.
– Терентий Лукич рано или поздно все вынюхает, – упавшим голосом сказала она и тут же предложила: – Тебе надо схорониться где-нибудь до поры до времени. Графиня пускай поживет у меня. Выдам ее за дальнюю родственницу… К женщине придираться не станут.
– Куда же мне съехать? – задумался Афанасий. – У меня никого, кроме тебя, здесь нет.
– На Охту, – подсказала Зинаида. – Там ведь были у тебя дружки-приятели?
– Такие дружки, что донесут на меня сей миг, едва заприметив. Нет, на Охту никак нельзя. А вот если… – Его лицо вдруг просветлело. – Ну конечно! Как же мы сразу до этого не додумались? Ты должна свести меня с местной общиной, а уж братья найдут куда пристроить.
Такого поворота Зинаида не ожидала, но тут же нашлась.
– Здесь нет никакой общины, ее давно разогнали! – огорошила она брата и, не дав ему опомниться, запричитала: – Господи! Я давно должна быть в лавке… – И бросилась вон из комнаты.
Оставшись один, Афанасий еще долго смотрел на дверь, за которой скрылась сестра. Потом перевел взгляд на стену, откуда собственноручно снял старые дедовские иконы. Вместо них на выгоревших обоях красовались темные следы, смотревшие на него с недоброй внимательностью, как подслеповатые старческие глаза.
Глава четвертая
Один весьма неудачный обед
Сегодня была получена неутешительная весть, что в силезском городе Бунцлау слег с тяжелой простудой фельдмаршал Кутузов. Простые люди восприняли это известие со страхом. «Что же теперь будет с нашей армией?» – задавались они тревожным вопросом, не подозревая, что светлейший князь уже давно только формально является главнокомандующим. Граф Федор Васильевич Ростопчин, ехавший с супругой и младшей дочерью Лизой в губернаторской карете, сказал по этому поводу в крайнем раздражении:
– Старик умирает в лучах славы и будет навеки записан в герои, в спасители Отчизны. Полководец, который не выиграл ни единого сражения у француза, позорно отдавший Москву на растерзание Зверю, проспавший корсиканца на Березине…
– Мой друг, не надо так волноваться, – перебила его графиня, накрыв ладонью трясущуюся руку мужа.
Лиза все время пути смотрела в окно и, казалось, не вникала в разговор взрослых, но когда отец в сердцах бросил: «Почему государь прощает ему все и почему не прощает другим?», в ее взгляде отразились боль и сочувствие.
Был ли в истории еще подобный случай, когда полководец так дерзко гипнотизировал своего государя, отводя ему глаза от истинного положения дел? Кутузов после жесточайшей и упорной Бородинской битвы рапортовал Александру о победе, что, по самым мягким оценкам, не соответствовало истине. Русские войска уступили французам свои позиции, ввели в бой весь резерв, в то время как Наполеон придерживал до конца доблестную гвардию и сохранил ее для дальнейших битв. За вымышленную победу император молниеносно присвоил Кутузову звание фельдмаршала и наградил вечной пенсией в размере 25 тысяч рублей, которая после его смерти переходила к родственникам. Москва превратилась в черные руины, забитые трупами и полутрупами, населенные голодными одичавшими людьми… Разве это было единственно возможное решение – сдать столицу без боя? Что было в нем гениального, кроме абсолютного цинизма? «Князь Кутузов не желает ничего лучшего, как не сражаться, не командовать и вас обманывать…» – писал Ростопчин Александру, но государь, в отличие от своего отца – императора Павла, не любил грубой откровенности и оставлял письма графа без ответа. На самом деле ближайшее окружение Александра знало, что сдача Москвы и обнаружившийся вскоре обман явились для него страшным потрясением. Первым порывом императора было отстранить Кутузова от командования, но то ли в силу слабости характера, то ли побоявшись обезглавить армию в острый момент, он этого не сделал. «Почему России так не повезло?! – восклицал про себя граф. – В годину самых страшных испытаний на троне оказалась не всемогущая Екатерина, не одержимый Павел, а какое-то манерное пухлое облако, все состоящее из противоречий!» В такие минуты он ненавидел Александра и едва сдерживал крамольные высказывания.
– Оставьте князя Кутузова в покое, мой друг, – продолжала успокаивать его Екатерина Петровна. – Он мог обмануть государя, но невозможно будет обмануть потомков. Они осудят его, ведь никому еще не удавалось лгать после смерти.
От Кутузова и Александра неспокойные мысли Федора Васильевича перекинулись на собственные неприятности. В последние дни он пребывал в самом волнительном состоянии. Главный полицмейстер Ивашкин докладывал каждый день о происках молодого Бенкендорфа. Кажется, тот собрал уже достаточно материала о казни купеческого сына Верещагина, чтобы сделать подробный доклад императору. И помогла ему в этом любимая дочь Ростопчина, Натали! Граф отчасти оправдывал ее, понимая, как она страдает от московского бойкота, как ждет не дождется папенькиной отставки и переезда в Петербург. Наивная дурочка! Неужели она думает, что в Петербурге их положение изменится? И все же он приказал Ивашкину не трогать Бенкендорфа, не чинить ему препятствий. Им овладел не свойственный его натуре фатализм. Он уже предвидел скорый конец своего губернаторства.
С каждым днем жизнь в этом городе становилась для его семьи все несноснее. Кто-то упорно распространял по Москве слух, будто бы губернатор, выдающий себя за героя Герострата, истинного патриота, на самом деле закопал все свои сокровища в подземельях Вороново, а потом поджег дворец, в то время как москвичи по его приказу лишились и крова, и имущества. К нему стали приходить анонимные письма с обвинениями и угрозами. В одном письме прямо было указано, что графу следует выкопать вороновские сокровища и, присовокупив к ним товары из магазина мадам Обер-Шальме, все продать, а вырученные деньги раздать несчастным погорельцам. «Обер-Шальме – вот где собака зарыта!» – восклицал про себя Ростопчин. Вернувшись в погорелую Москву, он вполне справедливо чувствовал себя победителем, а у всякого победителя должны быть свои трофеи. Он конфисковал товары из богатейшего французского магазина в свою пользу. Если бы не этот досадный случай, на который, кстати, даже государь закрыл глаза, тогда бы, может, люди и поверили в бескорыстие губернатора. «Но ведь я потерял в сотни раз больше, чем взял у проклятой француженки! Как ОНИ этого не поймут?» ОНИ, то есть москвичи, не желали ничего понимать. ОНИ потеряли все и взять им было неоткуда. Поэтому ОНИ будут поносить его имя до скончания века. Поэтому его семья будет вынуждена покинуть этот город.
Граф закрыл глаза, и перед ним на мгновение предстал величественный дворец Вороново, его гордость, «любимая берлога», как он любил шутить. Он мог жить с семьей в этом поместье круглый год безвыездно. Купив его восемь лет назад у своего друга графа Воронцова, Федор Васильевич преобразил усадьбу и парк, улучшив их во сто крат. Он собрал уникальную коллекцию картин и скульптур со всей Европы. Оранжереи были полны экзотических деревьев. В конюшнях жевали овес арабские скакуны, английские буцефалы и представители других знаменитых пород. Каждая лошадь стоила целого состояния. Он даже вывел собственную породу лошадей, которая получила его имя – ростопчинская. Исполинские бронзовые кони стояли при входе во дворец, словно египетские сфинксы, стерегущие покой хозяина. Именно здесь, под этими конскими статуями, шестого сентября двенадцатого года, после исхода из Москвы, он приказал дворовым людям разжечь большой костер. Здесь же биваком расположились генералы и офицеры, сопровождавшие Ростопчина в поисках генерального штаба армии. Дворовые люди вынесли из погребов вина и разносолы.
– Побалуемся напоследок рейнвейном и токаем, господа! – предложил он присутствующим под одобрительные возгласы и, поднявшись со своего места, с торжеством добавил, кивнув на дворец: – Утром я превращу все это в пепел.
Сидевший рядом генерал Алексей Петрович Ермолов поднял на него удивленные глаза, маленькие и умные, как у дрессированного медведя. Его брутальное, резко очерченное лицо с мясистыми щеками приняло недоверчивое выражение. Пожав плечами, он сказал:
Другие электронные книги автора Анатолий Ковалев
Посланница судьбы




 4.67
4.67