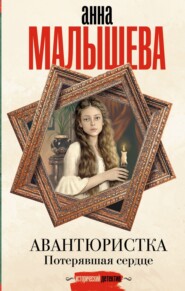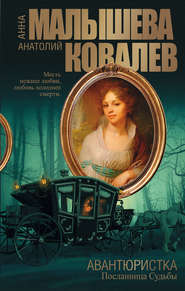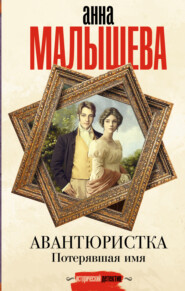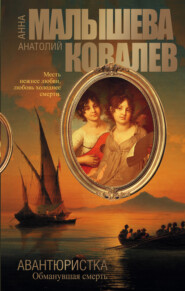По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потерявшая сердце
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О любви к… одной девушке, – едва шевеля губами, произнес маленький ловелас и, спохватившись, добавил: – И о любви к животным.
Лиза снова захихикала и сделала неожиданное признание:
– А я не всех животных люблю. У маменьки живет злой и противный попугай Потап. Он только и знает, что целыми днями себя нахваливает: «Потап Потапович Потапов – молодец!» А еще любит задирать всем юбки и кусать за икры. Ужасно больно!
Екатерина Петровна за все время обеда не произнесла ни слова и по-прежнему сидела с каменным лицом. Во-первых, она с равной неприязнью относилась к Медоксу и к Белозерскому, а во-вторых, беседа велась исключительно по-русски, а это она считала плебейством. К тому же Екатерина Петровна далеко не все понимала.
– Дорогая графиня, – наконец обратился к ней по-французски Медокс, – я приготовил для вас небольшой подарок.
Старику было хорошо известно, что, кроме религии, у графини есть еще одно страстное увлечение – птицы, и в особенности попугаи. В гостиной дома на Лубянке висел небольшой портрет юной Екатерины Петровны, сделанный каким-то заезжим австрийцем. Довольно миловидная девушка в ярко-красной шали держала на кончике пальца вытянутой руки зеленого попугая. Картина не отличалась высокими художественными достоинствами, но живописец умело польстил модели, и потому ее выставляли напоказ как свидетельство того, что некогда хозяйка дома была почти хороша собой. Сама она, к слову, была к своей внешности абсолютно равнодушна, полагая, что христианке иное отношение и не подобает, и картину не любила. «Вот маменька в юности не избегала красного цвета, – заметила как-то, глядя на этот портрет, модница Натали, – а нас заставляет рядиться в черные и серые тряпки. Ее попугаям дозволено больше, чем нам, ее дочерям!» Граф, помня о давнем увлечении супруги птицами, каждый год дарил ей на именины какую-нибудь экзотическую пернатую редкость. В доме была целая комната в виде клетки. Там жили птицы со всех концов света, от банальных канареек до редкостных колибри. Однако подлинными любимцами графини были все-таки попугаи. Избалованные хозяйкой, они беспрепятственно летали и разгуливали по всему дому, издевались над прислугой и домочадцами, доводя их порой до бешенства.
– Вот, примите от всего сердца. – Медокс снял с подоконника небольшую клетку, накрытую зеленым бархатом, и передал ее Екатерине Петровне.
Графиня приподняла покрывало и увидела парочку дремлющих неразлучников. Попугайчики сначала часто заморгали от света, а потом начали перебирать лапками на жердочке и низко кланяться, будто приветствуя новую хозяйку.
– До войны у меня жила парочка неразлучников, – никак не проявив радости, сообщила Екатерина Петровна, – но они не смогли перенести дороги. Я тогда многих птиц потеряла…
– Вот и восстановите потихоньку коллекцию, – произнес с заискивающей улыбкой Медокс.
Графиня, до этого не смотревшая ему в глаза и говорившая как бы сама с собой, наградила старика колючим взглядом и выдавила светскую улыбку:
– Не знала, что вы любите птиц.
– Ну как же, матушка, – обрадовался и такому знаку внимания старик, – люблю, как не любить? Вот хоть взять часы, изготовленные мною. На них всегда есть место для пташек небесных… – Он указал на часы с позолотой, стоявшие на комоде. Их корпус был выполнен в виде готического замка, на крыше которого располагалось гнездо с аистами.
– Кажется, я видела однажды у антиквария Лухманова, – снисходительно припомнила Екатерина Петровна, – ваши часы с орлицей и орлятами. Каждые полчаса из клюва орлицы падала жемчужина, прямо в раскрытый зев орленка.
– Верно, матушка, это был «Храм славы». Я его делал тринадцать лет для самой императрицы Екатерины, но, увы, не дожила, голубушка. Царство ей небесное. – Медокс перекрестился на православный манер, что не ускользнуло от придирчивого взора Екатерины Петровны, поразив ее в самое сердце.
«Фокусник проклятый! – воскликнула она про себя. – Все играет с Богом, хотя уже пора подумать о душе…» Вероисповедание Михаила Егоровича, так же, как и его национальность, для многих оставалось загадкой. Был ли он выкрестом из иудеев, протестантом с рождения или, живя столько лет в России, принял православие – неизвестно. Во всяком случае, в церкви его никто никогда не видел. А вот в молодости Михаил Егорович подвизался в роли фокусника и эквилибриста на петербургской сцене, об этом знали и помнили все.
Он еще долго рассказывал о своих часах, но графиня Ростопчина, решив, что уже оказала слишком большую честь хозяину, перекинувшись с ним парой фраз, его не слушала и слова не произнесла за весь вечер.
Тем временем князь Илья Романович разглагольствовал на тему нынешних законов, которые, на его взгляд, были слишком мягки и нуждались в ужесточении. Подведя итог своим речам, он в крайнем раздражении воскликнул: «Мошенников и прочих авантюристов надобно сразу ссылать в Сибирь на вечную каторгу!» На что граф спокойно, как бы невзначай, сказал:
– Кстати, ваша племянница не доехала до столицы…
– Откуда вам это известно?
Маленькие глазки Белозерского округлились от возбуждения. Он даже не сообразил тотчас отречься от родства, только что навязанного ему губернатором.
– От компаньонки-француженки, которую мы дали в сопровождение вашей родственнице, – невозмутимо пояснил Ростопчин.
– Вы… дали?! И где сейчас эта ваша француженка? – Руки князя начали предательски дрожать. Он вынужден был положить вилку и нож.
– Вернулась с полдороги. Где-то неделю назад. – Федор Васильевич с удовлетворением отметил состояние, в которое поверг Белозерского пустяковым сообщением, и с ухмылкой добавил: – Вам не о чем беспокоиться, дорогой мой князь. Ваше дело решилось в дешевом придорожном трактире на Костромской дороге. Именно там ваша племянница обрела наконец свое счастье.
– Что вы этим хотите сказать?
– Она обвенчалась с неким мелкопоместным дворянином, предложившим ей руку и сердце. Что ж, у каждого свой вкус! – Ростопчин хитро улыбнулся. – Как говорится, кто любит попа, а кто – попадью!
– Обвенчалась с первым встречным? – еще больше удивился Илья Романович, так что глаза его совсем выкатились из орбит. – Не может этого быть! Ваша француженка врет!
– Да уж, прямодушным этот народец никак не назовешь, – сел на любимого конька губернатор, – однако смею вас заверить, все компаньонки в нашем доме тщательно отобраны моей супругой именно по нравственному принципу. Они не посмеют нам лгать.
– Что бы это значило? Взяла вдруг да обвенчалась ни с того ни с сего! – не на шутку озадачился князь, нервно теребя пальцами жиденькие бакенбарды. – А вот что! – Он вдруг воздел палец к небу, и во взгляде его сверкнула молния. – Она нашла себе заступника, чтобы сообща с ним действовать против меня! У этого дворянина наверняка имеются связи в столице, иначе у него и шансов бы не было ею завладеть!
– Да побойтесь Бога, князюшка, – рассмеялся граф и похлопал его по плечу. – Не делайте из мухи слона. Сразу видно, что вы не романтик. Девица попросту влюбилась и в данную минуту вовсю наслаждается идиллией деревенской жизни. Парное молочко, знаете ли, редиска с собственной грядки, курочки-уточки… А вы здесь мечете громы и молнии. Говорю вам, все устроилось к лучшему…
«Все к лучшему! Как же! – повторял про себя Илья Романович всю обратную дорогу, трясясь в карете. – Не такова эта мошенница, она еще не сдалась! Но я смогу ее опередить. Завтра же выезжаю! Любыми правдами и неправдами проберусь в Павловск! А там посмотрим… Но каков губернатор?! Сидел у меня за столом, пил-ел, а после подложил этакую плюху, отправил племянницу в Питер, да еще с компаньонкой, как важную даму! Нет, никому нельзя верить!»
– Папенька, а мы в ближайшее время поедем к Ростопчиным? – решился спросить Борисушка.
– Я вижу, ты окончательно помирился с Лизонькой. – Князь погладил кудрявую головку сына. – Вот и молодец, голубчик. Она знатного рода, родители ее весьма и весьма богаты, надобно с нею дружить.
– Я вовсе не потому с ней дружу, – нахмурился Борис.
– Лизонька тебе нравится больше, чем Катенька Обольянинова? – проницательно спросил отец.
– Еще бы! – ничуть не смутившись, ответил мальчуган и страстно добавил: – Лиза красивее всех девочек на свете!
– Только вот что, дружочек, придется тебе покамест наслаждаться обществом Катюши Обольяниновой, потому что завтра мы отбываем в Петербург. И попробуй-ка для нее тоже сочинить стишок… Девочки это любят.
Борисушка не ответил. Он отвернулся к окну, и слезы брызнули из глаз, как он их ни удерживал. Если бы его спросили, отчего он плачет, мальчик вряд ли сумел бы точно ответить. Он не хотел так скоро расставаться с Лизой, и ему было обидно, что отец не воспринимает всерьез его поэзию.
По прибытии домой князь велел немедля закладывать карету, объявив домочадцам и прислуге, что на рассвете отбывает вместе с сыном в Петербург.
Графиня Екатерина Петровна пилила супруга всю обратную дорогу, попрекая его нелепым обедом у нелепых людей, и под конец обращалась к мужу уже на «ты». Это означало у нее крайнюю степень недовольства и раздражения. Они уже подъезжали к дому на Лубянке, а граф все еще не произнес ни слова в свое оправдание. Зачем он поехал к Медоксу? А зачем нужно было в свое время обвинять в непочтении к великому князю Павлу знатных вельмож, ссориться с ними, доводить до дуэли? Зачем нужно было сидеть у постели умирающего опального Суворова, проливая над ним слезы, и навлечь тем самым на себя гнев императора Павла? Зачем?.. Он мог бы сказать супруге, что его долгом было навестить старого приятеля, презираемого и отвергнутого всеми, но вместо того он обратился к дочери:
– Понравились тебе часы, Лизонька?
– Еще как понравились! – подыграла ему маленькая плутовка. – Особенно те, которые играли менуэт, и барышни с кавалерами начинали плясать…
Графиня сразу по приезде домой уединилась в своей комнате и велела, чтобы ее никто не беспокоил. В такие минуты даже любимица Софья не решалась входить к матери.
«Этот английский жид вздумал дарить мне подарки, – кипела она от злости, – да еще крестится напоказ, изверг!» Безусловно, последнее обстоятельство больше всего задевало Екатерину Петровну, которая уже несколько лет была тайной ревностной католичкой. Если Медокс действительно принял православие, он сделался вероотступником относительно своей прежней религии, и то, что она в данных обстоятельствах уподоблялась ненавистному иноверцу, до судорог злило графиню. Ей мерещился в этом совпадении некий издевательский смысл.
Помимо попугаев и других заморских птичек был у графини особенный любимец. Прошлым летом на прогулке в Воронове она подобрала коршуна с подбитым крылом. Екатерина Петровна сама его выхаживала, лечила, и он сделался ручным, хотя никого, кроме графини, не признавал. Коршун жил в отдельной клетке и питался живыми мышами и крысятами, которые закупались специально для него у сидельца из бакалейной лавки, где повар Ростопчиных делал закупки. Хитрый приказчик разом достигал двух целей: уменьшал поголовье грызунов, которых на складе с мукой, крупами и сахаром водилось множество, и получал недурной приработок.
Екатерина Петровна вошла с подарком Медокса в комнату, где жил коршун, ловкой, опытной рукой достала из клетки неразлучников и запустила их к своему любимцу.
– Какой у тебя сегодня замечательный ужин, милый мой Августин, – ласково обратилась она к коршуну. Графиня называла хищника по имени, только когда оставалась с ним наедине. Никто в доме не должен был знать, что она назвала его в честь митрополита Московского, преподобного Августина.
При виде коршуна попугайчики забились в угол клетки, прижались друг к другу и задрожали мелкой дрожью, издавая жалобный свист. Сердце графини не смягчилось. Она с холодным наслаждением наблюдала, как Августин разнес несчастным птичкам черепа и принялся жадно выклевывать из них мозг. Это стало хоть какой-то компенсацией за неудачный обед и испорченный день.
В этой же комнате стоял потайной шкаф с выдвижным алтарем. Здесь отцы-иезуиты совершали тайные обряды, в которых, кроме графини, участвовала еще и Софья. Екатерина Петровна очень надеялась, что в скором времени к ним присоединятся Лиза и тот, чье крохотное сердечко сейчас бьется в ее чреве. Она открыла шкаф, встала на колени перед распятием и, сложив на груди ладони, вознесла молитвы Всевышнему. В ее латынь то и дело вплетался довольный клекот сытого Августина, который пытался обратить на себя внимание любимой хозяйки.
В это время граф Федор сидел в кресле у камина, опустошенный и раздавленный. Он впился взглядом в уродливых чеканных химер, скопированных мастером-французом с фасада Нотр-Дам де Пари. Но губернатор не видел их дьявольских ухмылок. В руке он держал срочную депешу, в которой сообщалось: «16 апреля сего года, в половине десятого вечера, в городе Бунцлау скончался светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский…»
Другие электронные книги автора Анатолий Ковалев
Посланница судьбы




 4.67
4.67