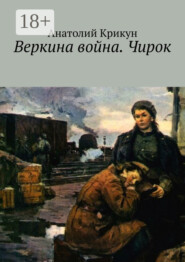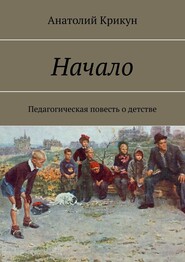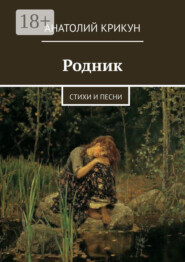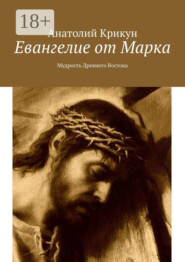По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь прожить – не поле перейти. Книга первая. Земля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
потрёпанного жизнью, и, наверное, женою, уличившую
муженька в амурных похождениях на старости лет, отдал короткое распоряжение секретарю. Когда тот спешно удалился, чиновник устроился после тряской дороги на помятом стареньком диване, невесть когда и откуда явившимся в этом казённом помещении (видно и секретарь и кто – либо иной, любили на нём прилечь). Второй
приезжий – худосочный, востроносенький, с тонкой
ниткой усиков над верхней губой, долговязый, ещё молодой человек в исправном, почти новом, ладно сидевшем на нём военном мундире, со всеми прилагающими его чину атрибутами в виде сабли и револьвера, являл лицо новое и редкое на селе. Представитель жандармского ведомства, осознавая свою значимость, остался на улице и стал
изучать внимательным взглядом, щурясь от блистающего весеннего солнца, окрестности. Небольшая площадь перед правлением, с коновязью, являлась центром села, которую пересекали две улицы. Под начищенными до блеска сапогами трещали льдинки, перемешанные с первой
весенней грязью, сверкавшие на солнце как алмазы. Пошарив глазами вдоль улицы, утвердился во мнении, что народ нужно собирать на майдане, между правлением и магазином – где на перекладине висел обрезок рельса на случай спешных оповещений. Колокол, который для этих целей повесили первоначально – пропал с концами.
Село было довольно большое. На окраинах, при въезде, теснились неказистые четырехстенные домишки крытые соломой, которую по весне в годы бескормицы скармливали скоту в ожидании урожая и свежей соломы. Огороды и хозяйственные постройки ясно указывали на прилежание и благосостояние хозяев. Покосившиеся, и уходящие под землю баньки, подгнивающие и давно отслужившие свой срок сараи, торчащие из под осевшего снега, засохшие заросли сорной травы и крапивы у покосившихся плетней, издали указывали на трудное мужицкое существование. Были и крепкие хозяйства, где дома – пятистенки, со
многими окнами в горнице, крыши крытые железом, и, окрашенные бережливыми хозяевами, крепкие надворные постройки, заполненные всем необходимым для извечных крестьянских трудов и являвшими мужицкую хватку и
зажиточность. Крепкие заборы, широкие ворота, ухоженная земля – всё это плоды и великих семейных трудов и дело рук наёмных за деньги и харчи работников со стороны. Как народ был пёстрым на селе, так и хозяйства разнились по достатку и обустройству. Большинство хаток были крыты соломой и огорожены жердями. Помещик, владевший
большими угодьями и после Великой крестьянской
реформы, оставил за собой лучшие земли после раздела, причём в размерах больших, чем обрабатывал сам, нанимая батраков и сгоняя крестьян должников на отработки. Да и за полученную общиной землю, не в лучших местах,
приходилось большинству залезать в долги к банкирам, чтобы в длительную рассрочку, с барышом для банкиров, по выросшей рыночной цене, выкупить в личную
свою собственность, а больше в собственность общины, с её регулярными переделами – по понятиям справедливости. При этом помещики вопили, что их обокрали и крестьяне чесали затылки – как же ловко чиновники их объегорили. Властям же казалось, что они мудро решили извечную проблему сеющую рознь и льющую кровь на протяжении сотен лет. «Земля и воля!» – эти два слова терзали души многих мужиков- лапотников, смущали их разум и толкали на великие грехи и беспримерные подвиги. Поливая землю своим потом и кровью, они искренне верили Святому писанию о равенстве всех перед Богом. Помещик, для большинства, был не добрым барином и рачительным хозяином, а – помехой их счастливой жизни в извечных
трудах и заботах, которую они хотели бы отстроить на
земле и порадовать свои сердца, а не обрести на небе, пройдя терпеливо земные страдания. Земля для многих была высшей ценностью и основой бытия. Украшенная лесами, полями, лугами, питавшими воздух дурманящими запахами от разноцветья трав, земля манила к себе
натруженные руки и спины; она дарила картины
зеленеющих и желтеющих под лучами солнца золотых и изумрудных нив. Земля успокаивала душу, изгоняла из сердца злобу. И работалось бы и жилось смерду-мужику, пахарю-хлеборобу-кормильцу привольно, если бы была его воля самому со своими собратьями – тружениками и владеть и распоряжаться этим бесценным богатством. Жаден настоящий мужик до земли, жаден до работы. Однако не один он этим грехом наделён. Жаден до земли и плодов её и всякий, кто, не проливая поту на пашне, силой готов
собрать с земли урожай. Тут и скорый на разбой воин-кочевник, имеющий во владении Великую степь – не для пашни, а для прокорма скота, из которого больше всего цениться боевая лошадь, и слуга государев – воин-защитник земли, за скудностью казны награждался и испомещался землёй на расширяющихся просторах растущей России вышедшей к Волге и Уралу. В Сибири, куда первыми
шагнули казаки, помещик прижиться не мог. Казак сам свою землю воевал, охранял и пахал и с государством договор имел, оплаченный кровью. Присосались, как
клещи, к земле, и пауки купцы-перекупщики и банкиры, выкупая у нерадивых помещиков землю и перепродавая её, зная ей цену. Чиновник строчил бумаги и оформлял дела, не забывая отхватить кусок чернозёма или леса. Земля кормила всех, но не все любили её, как пахарь в страдную пору, особенно по весне, когда, отдохнувшая за зиму под снегом земля, нагретая весенним солнцем, оттаявала,
напитывалась влагой и, отдавая влагу, как марево, к
бегущим по небу облакам, готовилась к встрече с
землеробом, который ощупывал её руками, вдыхал
дурманящий запах вспаханного осенью клина и верил, что к осени будет и хлеб, а значит и будет звучать песня.
Меж тем, вольных землепашцев, становилось всё меньше. В разные времена являлись вожди-самозванцы, в основном из казаков, которые и мужицкую жизнь знали и свободу свою отстоять саблей не боялись. Болотников Иван и
Булавин Кондратий, Стенька Разин и Пугачёв Емельян,
объявивший себя государем- императором, раскачивали миролюбивого мужика на разбои, погромы, восстания,
настоящие войны под сладкими лозунгами -«Земли и Воли!». Красный петух пел на помещичьих усадьбах; дубина, топор и вилы крушили нажитое чужим хребтом добро. Спасая свои жизни, помещики, чиновники и купцы бежали за помощью к властям. Церковь проклинала разбойные толпы, но угомонить эту стихию проклятьями и виселицами было невероятно трудно. Но мужик жил в своём замкнутом мирке и не глядел широко, не строил сложных теорий о переустройстве жизни, а вспоминал предков, которые, как им казалось, были и свободнее и сытнее: из их среды являлись Ильи Муромцы и Микулы Селяниновичи. Но век потрясений и революций, век
машин, пара и электричества, заставил и государей Российских и министров и чиновников, из которых не все были глупы, искать выхода из замкнутого круга- когда -«один с сошкой, а семеро с ложкой» и эти семеро ждут от земли даров не приложив к земле ни трудов, ни мозгов. Кроме того, объявились в среде ученых людей и критически мыслящих студентов и разночинцев – «друзья народа». Они писали из зарубежного далёка, из городских уютных квартир, полуподвалов и подвалов о бедах крестьянских и, радея за них, призывали мужика – то к топору, во
всероссийских масштабах, – то к просвещению – которые, рано или поздно, решат крестьянский вопрос. Нужно только положиться на «друзей народа», напугать власти, разрушить государство, убить царя с приспешниками и вот оно – счастье!» Власть народу! Земля народу! Свободу народу!» Какому народу? Народу, который сотни лет копил злобу на ту часть народа, которая его дурачила и обирала, народу, который, молясь и крестясь, пускал кровь своим соотечественникам, в зависимости от того, как каждый сам для себя определял свое счастливое существование?
Объединяющие идеи, вырабатываемые власть имущими охранителями уcтоев, а не прорастающими снизу – «За веру, царя и отечество. Православие, самодержавие, народность!» ветшали и не наполнялись жизненной силой в новые времена, а рушились нерадением об общих интересах многих государственных мужей, трескотнёй новоявленных, по- европейски образованных либералов, призывами к
кровавому переустройству и разрушению до основания того уклада жизни, не беспорочного, конечно, но привычного и более-менее понятного для простого российского мужика, который со своим семейством составлял громадное большинство во многоплеменной и разноязыкой империи, сказочно богатой от природы на землю и на людей
живущих на ней, но неустроенной по уму в повседневной жизни для миллионов людей. «Земля и воля!» – крепко сидело в крестьянском мозгу. Благодетелем объявят того – кто это им даст и научит – как жить. Может быть, два, нежданно объявившихся лица в селе, появившиеся по ранней весне и явят в себе хлопотунов за крестьянские интересы. Жандарм и землеустроитель?! Удары по рельсу и шустрый посыльный дело свое делали. К правлению на сход стал собираться разношёрстный народ. В основном, это были мужики. Пожилые, как наиболее активные и уважаемые, спешили занять места поближе к крыльцу и, пристроившемуся рядом, тарантасу. Кто в шапке, кто в картузе, а кто, в спешке, и с непокрытой головой, уже приветствовавшей тёплое солнышко. Мужики в полушубках, кацавейках, стеганых тёплых жилетах и
шинелях, валенках с галошами, галошах с теплыми
шерстяными носками, двойной вязки, разбитых сапогах и, у особо бережливых, в лаптях, образовали кружок, где гадали по какому случаю трезвон на селе? За стариками стали подтягиваться мужики одетые поприличнее, чтобы не
ударить в грязь лицом и не уронить перед людьми достоинство. Оделись так, как будто отправлялись в
церковь. Поскольку до страдной поры было далеко, мужики находились на своих дворах, занимаясь мелочными хозяйственными работами, либо, ещё с ленцой, лежали на боку – пока жена хлопочет в приготовлении съестного на обед, а завтрак переваривается в желудке. Нужно беречь силы на страду, а сход этому не помеха.
Мужики образовали свой круг и обсуждали внешние достоинства и недостатки франтоватого жандарма и строили предположения – по какому случаю, без
предварительного объявления, собрали сход с присутствием жандармского офицера и землеустроителя. Догадывались, что – не по пустякам. Женщин было немного, если не
считать особо любопытствующих молодиц, которым
хотелось и себя показать и на других посмотреть, а потом новости понести по всему селу, заходя в гости к своим
слушателям и передавая новости, переиначивая их на свой манер, чтобы посидеть подольше и, прихлебывая чай,
поболтать побольше. У молодёжи были свои заботы, и их явилось совсем мало. Малочисленным, но самым шумным, был женский круг, пестревший цветастыми большими платками и до земли свисающими широкими юбками, которые подтягивали наверх руками, чтобы не испачкались и не замочились и не прикрывали фасонистые тёмные плисовые жакеты блестевшие на солнце. У них были свои суждения, касаемые новоявленного жандарма, и причинах, собранного на майдане перед правлением, схода.
Шнырявшие в растущей с каждой минутой толпе мальчишки, в расчёт не брались. Они кричали и обсуждали своё, ничего общего со сходом не имеющее, и знали, что на сходе у них права голоса нет.
Наконец, жандарм из внутреннего кармана достал часы на серебряной цепочке, щёлкнул, открыв крышку,
внимательно посмотрел на расположение стрелок, провёл двумя пальцами по своим жиденьким усам и, защёлкнув крышку, направился к тарантасу, где его ожидали,
запыхавшиеся от суеты, председатель с секретарём. Они, с деланной улыбкой, встречали неведомого им, вооружённого жандармского офицер, осознававшего свою значимость. Сельская власть чувствовала за собой вину, что вовремя не объявилась в правлении и не встретила гостей. Староста за самоваром у священника обсуждал сложные мирские дела, поглядывая на пышную попадью. Речь вели о потрясавших Полтавскую и Черниговскую губернии аграрных
в беспорядках. Мужик вышел из повиновения, разорял
помещика, рубил лес и грозил властям. Офицер, не обратив на них внимания, придерживая приличествующую чину
казенную саблю, считая, что пора начинать и он здесь-
муженька в амурных похождениях на старости лет, отдал короткое распоряжение секретарю. Когда тот спешно удалился, чиновник устроился после тряской дороги на помятом стареньком диване, невесть когда и откуда явившимся в этом казённом помещении (видно и секретарь и кто – либо иной, любили на нём прилечь). Второй
приезжий – худосочный, востроносенький, с тонкой
ниткой усиков над верхней губой, долговязый, ещё молодой человек в исправном, почти новом, ладно сидевшем на нём военном мундире, со всеми прилагающими его чину атрибутами в виде сабли и револьвера, являл лицо новое и редкое на селе. Представитель жандармского ведомства, осознавая свою значимость, остался на улице и стал
изучать внимательным взглядом, щурясь от блистающего весеннего солнца, окрестности. Небольшая площадь перед правлением, с коновязью, являлась центром села, которую пересекали две улицы. Под начищенными до блеска сапогами трещали льдинки, перемешанные с первой
весенней грязью, сверкавшие на солнце как алмазы. Пошарив глазами вдоль улицы, утвердился во мнении, что народ нужно собирать на майдане, между правлением и магазином – где на перекладине висел обрезок рельса на случай спешных оповещений. Колокол, который для этих целей повесили первоначально – пропал с концами.
Село было довольно большое. На окраинах, при въезде, теснились неказистые четырехстенные домишки крытые соломой, которую по весне в годы бескормицы скармливали скоту в ожидании урожая и свежей соломы. Огороды и хозяйственные постройки ясно указывали на прилежание и благосостояние хозяев. Покосившиеся, и уходящие под землю баньки, подгнивающие и давно отслужившие свой срок сараи, торчащие из под осевшего снега, засохшие заросли сорной травы и крапивы у покосившихся плетней, издали указывали на трудное мужицкое существование. Были и крепкие хозяйства, где дома – пятистенки, со
многими окнами в горнице, крыши крытые железом, и, окрашенные бережливыми хозяевами, крепкие надворные постройки, заполненные всем необходимым для извечных крестьянских трудов и являвшими мужицкую хватку и
зажиточность. Крепкие заборы, широкие ворота, ухоженная земля – всё это плоды и великих семейных трудов и дело рук наёмных за деньги и харчи работников со стороны. Как народ был пёстрым на селе, так и хозяйства разнились по достатку и обустройству. Большинство хаток были крыты соломой и огорожены жердями. Помещик, владевший
большими угодьями и после Великой крестьянской
реформы, оставил за собой лучшие земли после раздела, причём в размерах больших, чем обрабатывал сам, нанимая батраков и сгоняя крестьян должников на отработки. Да и за полученную общиной землю, не в лучших местах,
приходилось большинству залезать в долги к банкирам, чтобы в длительную рассрочку, с барышом для банкиров, по выросшей рыночной цене, выкупить в личную
свою собственность, а больше в собственность общины, с её регулярными переделами – по понятиям справедливости. При этом помещики вопили, что их обокрали и крестьяне чесали затылки – как же ловко чиновники их объегорили. Властям же казалось, что они мудро решили извечную проблему сеющую рознь и льющую кровь на протяжении сотен лет. «Земля и воля!» – эти два слова терзали души многих мужиков- лапотников, смущали их разум и толкали на великие грехи и беспримерные подвиги. Поливая землю своим потом и кровью, они искренне верили Святому писанию о равенстве всех перед Богом. Помещик, для большинства, был не добрым барином и рачительным хозяином, а – помехой их счастливой жизни в извечных
трудах и заботах, которую они хотели бы отстроить на
земле и порадовать свои сердца, а не обрести на небе, пройдя терпеливо земные страдания. Земля для многих была высшей ценностью и основой бытия. Украшенная лесами, полями, лугами, питавшими воздух дурманящими запахами от разноцветья трав, земля манила к себе
натруженные руки и спины; она дарила картины
зеленеющих и желтеющих под лучами солнца золотых и изумрудных нив. Земля успокаивала душу, изгоняла из сердца злобу. И работалось бы и жилось смерду-мужику, пахарю-хлеборобу-кормильцу привольно, если бы была его воля самому со своими собратьями – тружениками и владеть и распоряжаться этим бесценным богатством. Жаден настоящий мужик до земли, жаден до работы. Однако не один он этим грехом наделён. Жаден до земли и плодов её и всякий, кто, не проливая поту на пашне, силой готов
собрать с земли урожай. Тут и скорый на разбой воин-кочевник, имеющий во владении Великую степь – не для пашни, а для прокорма скота, из которого больше всего цениться боевая лошадь, и слуга государев – воин-защитник земли, за скудностью казны награждался и испомещался землёй на расширяющихся просторах растущей России вышедшей к Волге и Уралу. В Сибири, куда первыми
шагнули казаки, помещик прижиться не мог. Казак сам свою землю воевал, охранял и пахал и с государством договор имел, оплаченный кровью. Присосались, как
клещи, к земле, и пауки купцы-перекупщики и банкиры, выкупая у нерадивых помещиков землю и перепродавая её, зная ей цену. Чиновник строчил бумаги и оформлял дела, не забывая отхватить кусок чернозёма или леса. Земля кормила всех, но не все любили её, как пахарь в страдную пору, особенно по весне, когда, отдохнувшая за зиму под снегом земля, нагретая весенним солнцем, оттаявала,
напитывалась влагой и, отдавая влагу, как марево, к
бегущим по небу облакам, готовилась к встрече с
землеробом, который ощупывал её руками, вдыхал
дурманящий запах вспаханного осенью клина и верил, что к осени будет и хлеб, а значит и будет звучать песня.
Меж тем, вольных землепашцев, становилось всё меньше. В разные времена являлись вожди-самозванцы, в основном из казаков, которые и мужицкую жизнь знали и свободу свою отстоять саблей не боялись. Болотников Иван и
Булавин Кондратий, Стенька Разин и Пугачёв Емельян,
объявивший себя государем- императором, раскачивали миролюбивого мужика на разбои, погромы, восстания,
настоящие войны под сладкими лозунгами -«Земли и Воли!». Красный петух пел на помещичьих усадьбах; дубина, топор и вилы крушили нажитое чужим хребтом добро. Спасая свои жизни, помещики, чиновники и купцы бежали за помощью к властям. Церковь проклинала разбойные толпы, но угомонить эту стихию проклятьями и виселицами было невероятно трудно. Но мужик жил в своём замкнутом мирке и не глядел широко, не строил сложных теорий о переустройстве жизни, а вспоминал предков, которые, как им казалось, были и свободнее и сытнее: из их среды являлись Ильи Муромцы и Микулы Селяниновичи. Но век потрясений и революций, век
машин, пара и электричества, заставил и государей Российских и министров и чиновников, из которых не все были глупы, искать выхода из замкнутого круга- когда -«один с сошкой, а семеро с ложкой» и эти семеро ждут от земли даров не приложив к земле ни трудов, ни мозгов. Кроме того, объявились в среде ученых людей и критически мыслящих студентов и разночинцев – «друзья народа». Они писали из зарубежного далёка, из городских уютных квартир, полуподвалов и подвалов о бедах крестьянских и, радея за них, призывали мужика – то к топору, во
всероссийских масштабах, – то к просвещению – которые, рано или поздно, решат крестьянский вопрос. Нужно только положиться на «друзей народа», напугать власти, разрушить государство, убить царя с приспешниками и вот оно – счастье!» Власть народу! Земля народу! Свободу народу!» Какому народу? Народу, который сотни лет копил злобу на ту часть народа, которая его дурачила и обирала, народу, который, молясь и крестясь, пускал кровь своим соотечественникам, в зависимости от того, как каждый сам для себя определял свое счастливое существование?
Объединяющие идеи, вырабатываемые власть имущими охранителями уcтоев, а не прорастающими снизу – «За веру, царя и отечество. Православие, самодержавие, народность!» ветшали и не наполнялись жизненной силой в новые времена, а рушились нерадением об общих интересах многих государственных мужей, трескотнёй новоявленных, по- европейски образованных либералов, призывами к
кровавому переустройству и разрушению до основания того уклада жизни, не беспорочного, конечно, но привычного и более-менее понятного для простого российского мужика, который со своим семейством составлял громадное большинство во многоплеменной и разноязыкой империи, сказочно богатой от природы на землю и на людей
живущих на ней, но неустроенной по уму в повседневной жизни для миллионов людей. «Земля и воля!» – крепко сидело в крестьянском мозгу. Благодетелем объявят того – кто это им даст и научит – как жить. Может быть, два, нежданно объявившихся лица в селе, появившиеся по ранней весне и явят в себе хлопотунов за крестьянские интересы. Жандарм и землеустроитель?! Удары по рельсу и шустрый посыльный дело свое делали. К правлению на сход стал собираться разношёрстный народ. В основном, это были мужики. Пожилые, как наиболее активные и уважаемые, спешили занять места поближе к крыльцу и, пристроившемуся рядом, тарантасу. Кто в шапке, кто в картузе, а кто, в спешке, и с непокрытой головой, уже приветствовавшей тёплое солнышко. Мужики в полушубках, кацавейках, стеганых тёплых жилетах и
шинелях, валенках с галошами, галошах с теплыми
шерстяными носками, двойной вязки, разбитых сапогах и, у особо бережливых, в лаптях, образовали кружок, где гадали по какому случаю трезвон на селе? За стариками стали подтягиваться мужики одетые поприличнее, чтобы не
ударить в грязь лицом и не уронить перед людьми достоинство. Оделись так, как будто отправлялись в
церковь. Поскольку до страдной поры было далеко, мужики находились на своих дворах, занимаясь мелочными хозяйственными работами, либо, ещё с ленцой, лежали на боку – пока жена хлопочет в приготовлении съестного на обед, а завтрак переваривается в желудке. Нужно беречь силы на страду, а сход этому не помеха.
Мужики образовали свой круг и обсуждали внешние достоинства и недостатки франтоватого жандарма и строили предположения – по какому случаю, без
предварительного объявления, собрали сход с присутствием жандармского офицера и землеустроителя. Догадывались, что – не по пустякам. Женщин было немного, если не
считать особо любопытствующих молодиц, которым
хотелось и себя показать и на других посмотреть, а потом новости понести по всему селу, заходя в гости к своим
слушателям и передавая новости, переиначивая их на свой манер, чтобы посидеть подольше и, прихлебывая чай,
поболтать побольше. У молодёжи были свои заботы, и их явилось совсем мало. Малочисленным, но самым шумным, был женский круг, пестревший цветастыми большими платками и до земли свисающими широкими юбками, которые подтягивали наверх руками, чтобы не испачкались и не замочились и не прикрывали фасонистые тёмные плисовые жакеты блестевшие на солнце. У них были свои суждения, касаемые новоявленного жандарма, и причинах, собранного на майдане перед правлением, схода.
Шнырявшие в растущей с каждой минутой толпе мальчишки, в расчёт не брались. Они кричали и обсуждали своё, ничего общего со сходом не имеющее, и знали, что на сходе у них права голоса нет.
Наконец, жандарм из внутреннего кармана достал часы на серебряной цепочке, щёлкнул, открыв крышку,
внимательно посмотрел на расположение стрелок, провёл двумя пальцами по своим жиденьким усам и, защёлкнув крышку, направился к тарантасу, где его ожидали,
запыхавшиеся от суеты, председатель с секретарём. Они, с деланной улыбкой, встречали неведомого им, вооружённого жандармского офицер, осознававшего свою значимость. Сельская власть чувствовала за собой вину, что вовремя не объявилась в правлении и не встретила гостей. Староста за самоваром у священника обсуждал сложные мирские дела, поглядывая на пышную попадью. Речь вели о потрясавших Полтавскую и Черниговскую губернии аграрных
в беспорядках. Мужик вышел из повиновения, разорял
помещика, рубил лес и грозил властям. Офицер, не обратив на них внимания, придерживая приличествующую чину
казенную саблю, считая, что пора начинать и он здесь-