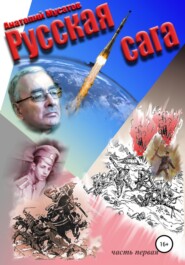По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заслон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Худой и сухонький, Мефодий оказался почти невесомым. Евсеев без труда приподнял его. Из узла, который ему подал корреспондент, дед вытащил что-то похожее не то на плащ, не то на долгополый армяк, но без воротника. С видимым усилием Мефодий сел на топчане, свесив ноги. Его лицо, маленькая сгорбленная фигурка выражали бесконечную усталость.
Евсеев помог надеть Мефодию накидку. Потом подал палку и флягу с водой. Старика одолевала жажда. Вода стекала по его запрокинутой бороде и кадык судорожно дергался снизу-вверх. После нескольких глотков силы, казалось, покинули Мефодия. Он уронил руку с флягой на колени и ещё больше поник, тяжело дыша. Евсеев с тревогой смотрел на Мефодия. Поймав его взгляд, старик усмехнулся:
– Ну… давай… вставать будем.
Усадив Мефодия на завалинку, Евсеев поднял голову и огляделся. Он стоял, вдруг захмелевший от налетевшего на него с лугов ветра. Их заливали потоки теплого света, густая, высокая трава шумела вокруг, как лес, донося до них свой терпкий, медвяный запах. И этот запах, и шум, и тепло, поднимающееся от земли, подхваченное порывами ветра уносились мимо них, вверх, к плывущим по небу, неторопливым белым облакам.
Евсеев глянул на Мефодия. Тот производил странное впечатление. «Старик словно похоронил себя заживо в этой избе». Казалось, перед ним сидел не человек, а его тень, на которой непонятным образом держалась одежда. Старик сидел, закрыв глаза и вытянув, перед собой руки, положив их на палку. Спиной прислонился к стене и так оставался недвижим.
Евсеев никак не мог решиться потревожить его. Внезапно он понял, что его будто одолевает некая робость. Это чувство было непохоже на то, которое иногда посещает человека в случае непонятных ему явлений. Это была скорее боязнь упустить что-то очень важное, с которым пришлось столкнуться в жизни.
Евсеев хотел было деликатно напомнить о себе легким покашливанием, но Мефодий упредил его словами так, будто он давно с ним говорил и только сейчас закончил вслух свою мысль:
– …Федотовна таперича ко мне редко заходит. Оно понятно… Бывало у нее зимую… На печи много ли наслухаисься… Прежде сама забегала, а вишь, слегла намедни – годочков-то много, уж пора нам… А все одно скажу я тебе, – и помереть не страшно. Налаживается жизнь… Легшее людям жить стало…
Говорил дед размеренно и тихо. На Евсеева Мефодий не смотрел, словно не имело для него значения его присутствие. Он говорил так, словно ощущая потребность в собеседнике как он сам, нуждаясь быть понятым самим собой. Но, повернув голову, сказал уже Евсееву:
– Ты, сердешный, не гневись на старика. Видать, крепко я прогрешил перед Богом, что к своим не пущает… Понимаю, людям морока со мной, вот и сердит через это… Однако, ты хотел говорить со мной, а доселе помалкиваешь…
Из-за поворота послышался стук копыт. И почти сразу же из низинки, откуда шла небольшая тропа, вылетела небольшая бричка. Метрах в трех она остановилась. Из нее спрыгнул высокий, ладный человек, крепкого вида и годами лучшей поры жизни.
Мужчина подошел и протянул Евсееву крепкую, широкую ладонь:
– Здравствуйте. Председатель я здешний. Мне сказали, что из области приехал корреспондент из газеты, да прямо к Мефодию. Беседовать с ним. Вы уж извините, что припоздал. Мужики поздно сказали. Запарка у нас сейчас такая, – дыхнуть некогда. Ну что, дед? Скоро знаменитостью станешь, в газетах писать будут. Даже товарищ корреспондент побеспокоился, приехал.
Последнее он проговорил с улыбкой, глядя на Мефодия. Тот глянул на председателя одними глазами. Не поднимая головы с рук, которыми оперся на палку, сказал:
– Садись с краю Петро. В ногах правды нет. А что работы много – это хорошо. Пропасть без работы-то можно…
И тут же добавил:
– А товарища газетчика зазря побеспокоили. Ты, Петро, лучшее о себе, да о людях бы рассказал. А на что ему моя жисть, – в обрубках, да узлах вся. Иным утром самому глаза открывать тошно, а не то, чтоб людям слыхать про это… Вот так-то, мил-друг сердешный.
Председатель покачал головой:
– Ай-яй-яй! Вон оно, какие у вас дела! Не ершись дед, уважь! Не зря товарищ корреспондент приехал. Пусть о тебе все узнают. Понятно?
И, взглянув на Евсеева, сказал:
– Вы, товарищ Евсеев, не стесняйтесь, спрашивайте. Он только с виду такой колючий, а ведь добрейшей души человек. Ох и нагонял на нас, мальцов, в детстве страху. Одними глазами да рыком. К нему и в сад-то боялись лазить. Об заклад бились, когда спор выходил, – смелостью мерялись. Так ведь, Мефодий? Ну да ладно. Не буду мешать. Пора мне.
Петр Иванович протянул руку:
– Извините пока что. Заходите, как освободитесь, к нам. Мы с женой будем рады. Заходите обязательно. Ежели задержусь, так вы подождите немного. Ну дед, бывай, не хворай. После полудни Марьку пришлю.
Председатель быстро зашагал к бричке. Вспрыгнул на неё и тронув вожжами лошадь, пробудил её от меланхолической дрёмы. Бричка резво двинулась, и только пыль, повисшая в воздухе, напоминала об уехавшем председателе.
Закурив, Евсеев присел рядом с Мефодием. Тот по-прежнему сидел, закрыв глаза, откинувшись к стене. Евсеев не хотел тревожить его. Видать, на солнце разморило старика. Но Мефодий неожиданно спросил:
– Как тебе председатель показался?
Евсеев замялся, не зная, что сказать. Мефодий опередил его:
– Крепкий мужик, наш Петр Иванович… Три метины на себе носит, думали ? не выживет с последней-то… Войско наше уже подходило, а в последнем бою нашла Петра пуля германская, аккурат под сердце нашла… Хорошо, случился вовремя лазарет, партизаны навстречу войску вышли… Наши наступали в то время. Доктор, когда принесли Петра, седой такой, со стеклами в золоте, сказал – не жилец ваш командир, пульца у него нет, не прощупывается. Тут Настасья, жена моя, жива тогда была ещё, царство ей небесное, взяла в оборот этого доктора. Говорит – делайте ему операцию и всё тут… Послушались, вынули пулю. Петр совсем плох, синеть стал, а ему уколы делают, кровь вливают. Ничего, заработало сердце, едва слышно, а работает… После забрала его Настасья, выходила травами да снадобьем… Петр, почитай, дён двадцать промеж жисти и смерти был, в сознание не возвращался. Доктор, ещё когда Настасья забирала Петра, сказал: «Выживет – сто лет будет жить». Она мне все это уже после рассказала. В это время она и меня с того свету тащила. Я тогда сам…
Мефодий опять замолчал. Евсеев курил, откинувшись стене избы. Слушая старика, он ловил себя на мысли, что сиди он ещё вот так много времени и это никогда бы не наскучило ему. От всего, что его окружало, исходило неторопливое спокойствие. Он как бы чувствовал значимость этих мгновений, которые сейчас, около него замедлили свой бег, показывая одну из граней своих бесконечных сторон. Еще ему казалось, что знает этого старика очень давно, но только по странному стечению обстоятельств никогда раньше не встречал…
– Хорошо-то как! Солнышко, словно мед для моих старых костей… Вот ты смотришь на меня и верно думаешь, – похоронил Мефодий себя заживо в погребе, – так ведь, мил-друг сердешный?
Евсеев, невольно улыбаясь, ответил:
– Я, Мефодий Кириллович, так не думаю. Это понятно, но все-таки для вашего здоровья здесь жить вредно. Ведь утром я застал вас совсем больным…
– Так-то оно так, – перебил его Мефодий. – Но нет мне нигде покою, окромя здешнего места. Я умирать скоро буду, обессилел, жисть невмоготу стала… Только вот удивительно, ? когда я тут, ? Игнатка с Севкой, да Настасья моя рядом. Покойно мне и хорошо…
Мефодий произнес последние слова, будто выдохнул. В уголках его глаз собрались морщинки. Должно быть, он улыбался про себя тем, кто ушел так давно.
– Мефодий Кириллович, – напомнил Евсеев. – Вы обещали рассказать о себе, о сыновьях. Если можно, продолжим?
– Эк ты нетерпеливый какой! Балабонь тебе, да балабонь, словно девки на посиделках, – неторопливо отозвался дед. – Ну да что с тобой поделать, коли эво твоя такая работа. Тольки… что рассказывать-то?..
– А вы рассказывайте все. Все, что вспомните.
– Э, мил-друг сердешный, ежели всё воспоминать-от, долгий рассказ выйдет, – усмехнулся Мефодий.
Евсеев решил спросить его о чём-нибудь конкретном. Так разговор быстрее сдвинется с той мёртвой точки, на которой сейчас он застрял. Евсеев понимал Мефодия, которому нелегко было говорить о сокровенном с человеком, которого видит впервые.
– Давно ли вы здесь живете?
– Тутошний я, совсем тутошний, как и всё, что здесь есть. Выселки ставил ещё мой дед, отец плотничал и меня к этому приохотил. Но судьба по-другому повернула. Я, как малость в силу вошел, брался помаленьку за топор. А когда задавило отца на порубке, вышло мне в батраки идти. Мать моя ещё раньше померла. По сиротству моему приютил меня здешний богатей, Семёнов Виктор Семёнович. Энтот ужимистый мужик был. Ногу приволакивал, ему ее лесиной поломало, а всё обойдет да указанье изделает, глазом своим осмотрит… Лесопилку держал, да-а… Поставил он меня комли обсекать. В кажном пудов по шесть, а его нужно выворотить из кучи, да обмахать топором. Сучья-кору срубить. Пожалел, значит-ца, мальца, ага-а…
Мефодий упрямо мотнул головой.
– Жалел он этак меня, жалел за похлёбку псовую, пока я силы не набрался… И самому удивительно, вроде наоборот должно быть, – помереть с такой жисти мне. Ан нет!.. Ну, дальше стал я лесины делить на пласти ужо в другом месте. Пролетело этак годков пять. Судьба повернула мне встренуть мою Настасью Никитичну… Многое стерлось в памяти, но это помню. Лицо её белое, шепот горячий, а голова кругом идет, толь от хвойного духа лапника, на коем прилегли, толь ещё от чего… Не знаю…
Женился я вскорости на Настасье Никитичне и полетели годочки в работе. Детей сразу не было у нас, бог видно осерчал за что-то… Сил тогда много было, не жалел себя. На извозе, в подручных, скопил кое-какую копейку. По месяцу дома не бываешь, ни души не видишь, окромя артельных, – мы тогда в столицу лес возили. Мужики в Питере все больше после торговли по лавкам да кабакам деньги спускали, а я думаю: «Ан нет брат, шалишь! Не для того горб ломаю!». Вот так потихоньку набрал деньжонок… Аккурат под германскую, своё дело поставил. Не сказать, чтобы завидное приобретение было, но все-ж свое. Жить можно было…
Речь Мефодия лилась неторопливо, совсем не имея различия между шумом трав, разноголосым пением птиц, гудением пчел и особой, звенящей тишиной, окружавшей избенку и сидевших около неё Евсеева и старика. Яркое солнце на глубоком, синем небе вносило в эту покойную благодать своё неуловимое завершение.
– Жить можно было, – повторив, продолжал Мефодий, – да только недолго нам с Настасьей радоваться пришлось. Началась война с германцем, а на пятый день забрали меня. Я был тогда на порубке. Воротился, а Настасья валится мне в ноги, криком кричит… Ну, понятно, я говорю ей, – угомонись, мол, что за причина такая? А она: «на войну забирают тебя…», и опять в крик… Вот так я и спознался с ним, проклятым… А ты-то, в нонешнюю игде служил? – неожиданно спросил Мефодий.
– Да мне пришлось бывать в разных местах, по заданиям редакции. Почти на всех фронтах, повидал всякого, – отвечал Евсеев.
– Это верно. Там всякого навидаешься… под завязку хлебнешь … Мне пришлось плотничать в германскую. Сапером, значит-ца, служил. Мосты больше наводили да переправы, через энто чуть не утоп однажды, да, слава богу, вытащили. Обстреливал нас тогда германец антилерией крепко, ну и угодило рядом. Только круги пошли. Я и не помнил ничего. Очнулся на берегу. Надо же такому случиться, троих рядом убило, а я жив, даже не утоп. Спас меня взводный… Сам ранетый был, а не дал поганой смертью молодому парню помереть… Вытащил. Хороший мужик был. Потом сгинул он… За агитацию забрали его, да больше не слыхать о нем было. Об етом ребята наши сказывали, которые позжее меня в лазарет попали …
Мефодий замолчал. Видно было, что разговор сильно утомляет его. Чуть передохнув, он продолжил:
– …Вот так год я провоевал, плотничая. Аккурат под рождество я был снова ранетый. Осколок мне ногу разворотил. Через енто списали меня вчистую. После лазарета подался в родные места, к Настасье. По первому году хворал много, – рана не заживала. Спасибо моей Настасье Никитичне, – выходила она меня. Я спервоначалу думал, – плохи дела, без ноги век куковать суждено, но Бог рассудил иначе. Все зажило, как на кобеле, даже хромым не остался… Как пришел в себя маненько, взялся за дело. Работал, что проклятый, с темна до темна, а все мало казалось. Хотелось больше, словно времечко наверстать упущенное. Домой ввалюсь, ужо не помню, как, да только рано поутру просыпаюсь в постели. Настасья, значит-ца, похлопотала. Не-е, ранее меня она не ложилась. А утречком я глаза открываю, а она у печи хлопочет, смотрит на меня и улыбается. И поверишь, на душе так легко и хорошо становилось, будто и не было горьких дней и не будет, а вся жистъ вот так шла и нет ей конца…