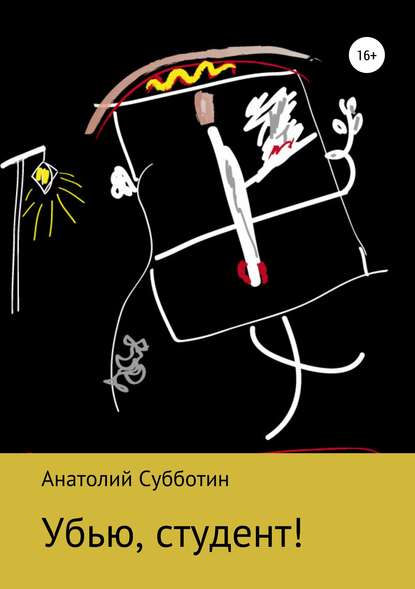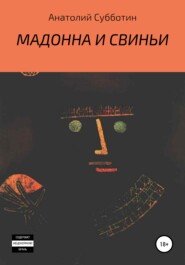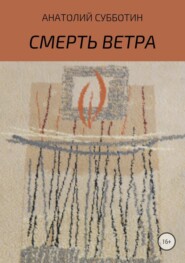По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убью, студент!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отнюдь, – говоришь ты, – меня тошнит не только от бодяги, купленной у таксистов, но и от магазинной водки. Меня тошнит и от вина и даже от коньяка. Дело не в качестве, а в количестве выпитого. И вообще, моя слабая печень не желает усваивать алкоголь.
– Так зачем же эти муки? – спрашивают хорошие люди. – Зачем ты пьешь разную гадость? Зачем ты вообще пьешь?
Сей вопрос ставит тебя в тупик. Как ответить на то, на что даже Гамлет, принц датский, не нашел ответа? «Пить или не пить»? – все время размышлял он и таки пил, пока не помер. Может, ты употребляешь, чтобы стать смелее с девушками? Да, конечно; перед танцами надо непременно употребить, а то простоишь весь вечер, никого не пригласив. Может, ты усугубляешь от радости? Еще бы не от радости, ведь коммунизм на носу; вся страна радуется, а я что – рыжий! Или, может, горе какое у тебя? А пожалуй, и горе, вернее, тревожится что-то мне. Все как будто так да не так. Будто погнило что-то в датском королевстве. Опять же экзамены. Что экзамены? Так ведь стресс, буря. Как же после них не поддать, как не успокоиться?
Посмотрят, посмотрят на тебя хорошие люди – и махнут рукой. И ты снова очутишься на 2-ом этаже «восьмерки», где все уже хороши. Откуда-то уже взялась какая-то девушка и какая-то гитара. И ты, утратив скромность, уже поешь неприличную песню, заимствованную у Шуры Николева, песню, которая была бы стопроцентно пошлой, когда бы не имела политической подоплеки.
На параде к тете Наде
молодой комиссар
все подходит сзади, сзади,
чем-то дышит в небеса.
Реют шарики воздушны
в небесах, в небесах.
Тете Наде стало душно
в теплых байковых трусах.
А по манежу конница идет
и на веревке тянет бронепоезд.
Тетя Надя не дает, тетя Надя не дает,
а комиссар уже снимает пояс.
Все сидели – сразу встали.
Крик и вой, крик и вой.
Из Кремля выходит Сталин,
кормчий наш и рулевой.
Он подходит к мавзолею –
наш отец, наш отец!
Комиссар, от страсти млея,
вынул жилистый конец.
– Как откровенно! – говорит присутствующая здесь девушка и смотрит на тебя не без интереса.
17. Портрет лежащего
Часов в 11 вечера Юрий Ованесян возвращался к себе в общежитие. Ветер сдувал с сугробов поземку. Подмораживало. В нескольких шагах от «восьмерки» (оставалось обогнуть ее с торца) Юрий едва не споткнулся о чьи-то ноги, из сугроба на край дорожки вытянутые. Видит: лежит в снегу человек; ботинки на нем легкие, на тонкой подошве, да и куртка не совсем зимняя. Взглянув в лицо, он узнал в человеке того типа, который пожалел ему на первом курсе свою гитару. Была вечеринка, и захотелось попеть, а гитары нет. Ну, и обратился он к этому гусю, обладающему инструментом. А тот: не дам. Почему? Нет и все. Да еще с каким-то вызовом. В общем не по-общежитски. Вышел тогда из его комнаты Юра, обижен и зол. И теперь вот этот тип лежит в сугробе. Замерзнет ведь черт! – подумал Юрий и, скрепя сердце, кое-как поднял и потащил нелегкое тело в общагу.
Соломин укладывался спать, когда в комнату вошел Ованесян.
– Иди, – сказал он Лёне, – там, внизу твой знакомый, с которым ты на первом курсе жил. Я его с улицы приволок и посадил к батарее.
– Кто?
– Да полный такой. Шурой, кажется, зовут.
– Николев?
– Наверно.
Лёня спустился с 4-го этажа в вестибюль. На бетонном полу у батареи лежал тот самый.
Шура Николев был не каким-нибудь самодеятельным исполнителем бардовских песен. Он пел в «Бригантине» – этом почти профессиональном хоре, состоящем из студентов университета. Он рассказывал, как однажды на репетиции, когда они в оный раз прогоняли песенку про сапожника, который решил бросить шить сапоги и стать композитором, кто-то из участников хора, видимо, от скуки заменил одну фразу. Вместо слов «Не узнал его я сразу: тот он иль не тот» явно прозвучало: «Не узнал его я сразу, ёб…нный он в рот». Худрук и дирижер остановил пение и стал внимательно всматриваться в лица. Но все студенты-хористы отвечали ему невинными, добродушными взглядами, и шалопай не был пойман.
Лёня потянул лежащего за рукав: «Шура, вставай»! Тот зашевелился. Потом сел. Пьяный, как сапожник, он тем не менее сразу узнал Соломина: «А-а, Соломенник»!
– Шура, ты можешь встать?
– Могу.
– Вставай, пошли в комнату. Не надо тут сидеть, замерзнешь.
После долгих переговоров Шуру удалось поднять на ноги. Закинув его руку себе на плечо, Лёня повел его на 4-ый этаж.
Он собирался сегодня спать на койке Алексея Ухова, который уехал на выходные домой, и раскладушка была свободна. Расправив ее, он уложил пьяного товарища прямо в одежде, ибо тот никак не хотел раздеваться. Он выключил свет, но Шуре не спалось. Ворочался, что-то бормотал и все время порывался встать «матрос Бригантины». Соломин удерживал его. Однако силы у, видимо, отдохнувшего в снегу и вестибюле Шуры возрастали. Он, наконец, поднялся и, несмотря на все уговоры, ушел в ночь.
Позднее, в 80-х годах, Соломин напишет об этом случае и вообще об этой колоритной личности стихотворение.
ПОРТРЕТ ЛЕЖАЩЕГО
Сокурсников своих он старше,
как говорят, студент со стажем.
Какой ни есть житейский опыт,
природный ум (еще не пропит),
начитанность… А в остальном –
как остальные: моложавый,
хотя крупнее их, пожалуй,