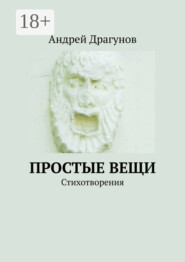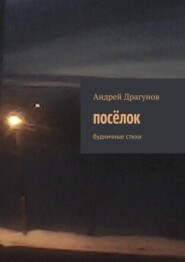По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подробности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Коль жизнь есть дар – то будней не бывает.
Пётр Вайль
Я расплатился на почте за телефон,
за разговор с другой половиной света.
С той частью суши, где над столом плафон
помнит лицо хозяина. Жжёт предметы
жёлтым свечением. А на траве дрова,
т. е. – обрубки жизни. Лицо за дверью —
точно в старинной раме. И все слова
переместились в трубку и стали тенью.
Как бы ещё живые, но этот грех —
преодолим со временем. Часть потери —
в произношении. Из-за земных помех,
радиоволны гибнут – на самом деле,
где-то уже за дверью, на полпути,
за полцены по льготе – такая малость,
чтоб попрощаться с жизнью. И не спасти
парой банальных слов то, что осталось.
Даже не вымолвить. Чтоб не сойти с ума,
перебираю в памяти дни недели
с нашей последней встречи – тогда луна
не поднималась выше ближайшей ели,
т. е. висела прямо под потолком,
перебивая свет над столом плафона,
что округляет жизнь за твоим окном
до колеса стола, до размеров дома
в той части света… От почты иду домой,
где пересчёт потерь и холодный ужин.
В радиоволнах застывший земной покой —
без продолжения. И без любви, к тому же.
Январь 10 2013 г.
«В моих словах уже не боль, но звук…»
В моих словах уже не боль, но звук
отставшего от жизни очевидца.
В количестве потерь – число разлук
преобладает – и не ошибиться
в перечислении, как не сойти с ума
от вымысла, что ближе и дороже —
субботы, воскресенья, четверга —
в конце концов, все дни недели схожи.
И лишь Создатель знал в порядке толк.
Давая миру новые названья,
Он долго выбирал, но быстро смолк,
поняв всю тщетность имя называнья —
вообще творения. Неделя в январе
длиннее, чем декабрьская неделя.
Толпятся дети дольше во дворе,
но тот, кого все ждут – опять не едет,
а только наблюдает из-за звёзд,
прикрывшись плотно мокрым белым снегом,
как раньше, в дни, когда ещё погост
был пуст, и всё ещё кончалось небом,
а не землёй, как ныне. Времена
не лучшие, возможно, для спасенья,
но в том не Предводителя вина.
И многое зависит от везенья.
От вымысла, что в суматохе дней
спасает лучше всякого солдата,
и от того он ближе и родней —
хотя и там в финале ждёт расплата
за чёрные страницы, за язык,
испачканный чернилами. Словами —
в конце концов. Но автор строк привык
платить за всё, пока над головами
горит хотя бы малая звезда,
невидимая глазу в непогоду.
Сквозь облака направленный туда
глаз отмечает путь по небосводу,
по плотному скопленью облаков,
как по зарубкам в непролазной чаще,
страдая от дорог и дураков,
что одинаковы, но от второго – чаще.
И, согреваясь тишиной в ночи,
вдруг понимаешь, что твоё молчанье —
лишь продолжение чернильных слёз свечи,
что умирают после остыванья,
но от тепла твоих замёрзших губ
опять живут… и значит, Воскрешенье —
возможно. А философ пьян и груб
был, рассказав про вечное забвенье,
про память, что у девки коротка,
как волосы, остриженные к свадьбе
с единственным, что не пришёл пока,
но где-то рядом с мыслями о правде
не то что жизни, но судьбы своей,
что несколько длинней, чем многоточье
в конце строки. И, кажется, что ей
не наплевать, что будет между строчек.
Вообще – в финале. Там, где в две руки
какой-нибудь Шопен звучит натужно,
сжимая пальцы, что так коротки
в желании расстаться с жизнью дружно,
как с некой вещью, что нужна пока,
но вытерлась за годы потребленья…