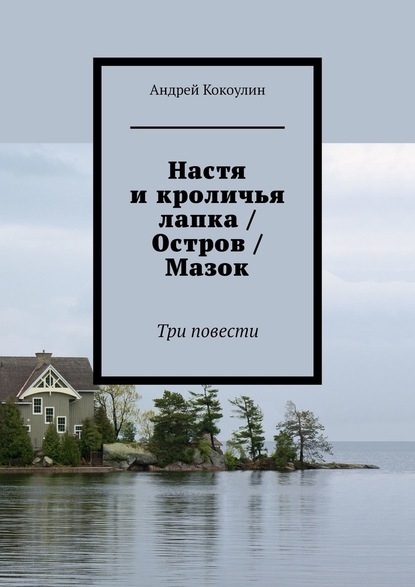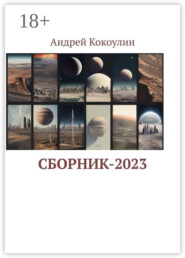По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настя и кроличья лапка / Остров / Мазок. Три повести
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот, около семисот.
Чужие деньги почему-то всегда жгли ему пальцы. Было страшно не то, что не отдать, а даже дотронуться. Дрожала душа – не твое.
– А точнее?
Хозяин потряс торопливо сунутой пачкой.
Лаголев, согнувшись, полез в записи, в палочки, кривым заборчиком поставленные напротив названий на разлинованном листе, защелкал калькулятором. Тридцать два на четыре… Девятнадцать на двенадцать…
Дятлом тюкала мысль: почему так? Почему в его жизни все так? Где и когда все сломалось? Не вместе ли со страной?
Один работает, другой деньги получает, третий гоняется с топором.
– Ну?
– Шестьсот девяносто шесть.
Лаголев повернул к Руслану экранчик калькулятора, вспомнил про десятку и, мгновенно взопрев, поправился:
– Э-э, шестьсот восемьдесят шесть. Я десятку там…
Лицо у Руслана, секунду назад снисходительно-доброжелательное, схлопнулось. Брови к переносице, щетина – иглами.
Даже глаза выцвели.
– Ты смотри мне… – тяжело проговорил он, сгребая в кулак ворот Лаголевской куртки. – Я такого не люблю.
– Я же… – задушено прохрипел Лаголев.
– Ты же, ты же…
В лицо ему пахнуло отголосками коньяка.
Мгновение, жуткое и оттого мучительно-длинное, Руслан смотрел куда-то внутрь Лаголева, в черноту зрачков, в дрожь и испуганное трепыхание естества.
Ухмыльнулся:
– Ссышь, да?
– Н-нет.
– Ссышь.
Кулак разжался. Лаголев уполз за прилавок.
Было страшно и стыдно. Но испуг таял, а стыд разрастался, заставляя судорожно перебирать периодику, шелестеть страницами журналов, что-то вроде бы подсчитывать, изображать хмурую занятость, лишь бы не поднимать мертвое, бледное, со сжатыми губами лицо к жизнерадостной чужой харе.
Руслан не уходил.
– Ну и чё ты? – услышал Лаголев. – Чё ты стух? А зарплату чё, не надо тебе?
– Надо.
– Чё? Громче говори!
Лаголев еще ниже опустил голову.
– Надо!
– Ну! Я же знаю! Я, в отличие от тебя, честный.
Руслан встал к прилавку вплотную, зашелестел только что отданными купюрами, затем полез за пазуху – за недостающим.
– Я тебе сколько должен?
– Пятьсот.
– Чё ты опять шепчешь?
Толстые крепкие пальцы с круглыми ногтями загибали купюры, пережимали и перекладывали: одну на другую, третью под четвертую, красненькую – на свет. По-свойски. Привычно. И никакого мошенства.
Лаголев протолкнул колючий воздух в горло.
– Вы мне должны пятьсот рублей.
– Э, нет, опять ты в расчетах ошибся, считала, – хмыкнул Руслан. – Двести аванса было? Было. Сейчас десятка куда ушла? Мимо ушла. – Он поплевал на пальцы. – Так что тебе причитается двести девяносто. Верно?
Лаголеву пришлось согласиться.
Руслан, шевеля губами, отсчитал купюры, в карманах джинсов нагреб металлической мелочи.
– Вот. Все по чесноку.
Бумажный ком упал Лаголеву в ладонь. Монеты, проскользнув сквозь пальцы, разбежались по журналам на прилавке.
– Спасибо.
– Косорукий, блин, – прокомментировал Руслан.
С ним нельзя было не согласиться.
Лаголев, опустив голову, принялся сцарапывать рубли с первых страниц. Ему вдруг сделалось дурно до дрожи. Сволочи. Все сволочи. Нелюди, закрутилось в голове. Упыри! Всем на все плевать, кроме себя. Себя-то уж не обидим! Десятку, но выцепим. А потом унизим.
Потому что кто я? Никто.
Не могу ни с топором, ни украсть… Ни к чему не способное, вымирающее животное. Таких уже не делают, делают других, у тех челюсти помощнее.
Которые жрут, жрут, жрут!