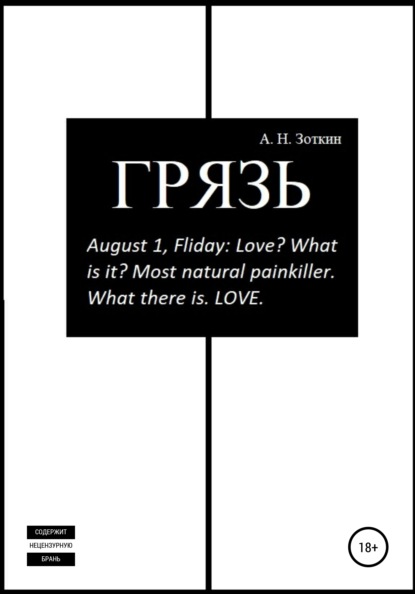По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грязь. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так значит, будет. Как часть декораций. Что ж, мы не украсим помещение Айвазовским только из-за того, что он нарисовал не море, а голод на суше? Стыдно прятаться от своей истории.
Оппонент хотел что-то сказать, но Николай уверенным шагом отошел от него, взял картину, понес ее на сцену и замер в ожидании окончания очередной песни. Плешивый фотограф поспешил скрыться.
Нет, право, тот вечер был действительно сплошным хаосом. Хорошо упорядоченным хаосом, снятым с первого дубля. Музыканты прочно заняли свои позиции на сцене и пели всё, что хотели. Танцевальные номера врывались на сцену и пытались, с одной стороны, показать то, что планировали, а с другой, попасть в ритм музыкантов. Положение стало комичным, когда часть артистов во главе с Зарёвым стала таскать мебель и декорации прямо во время выступлений, постоянно преобразовывая сценическую реальность. Двигающиеся стены, стулья, стулья, торшеры – сами того не заметив, музыканты и танцоры влились в этот мир, настроившись на его волну. Николай летал в вельветовом пиджаке на сцене, пытаясь слиться с танцорами, и раздавал команды предметам интерьера. На сороковую минуту эта ситуация достигла апогея: инструменты набрали мощности и были готовы взлететь вместе со своими хозяевами в стратосферу, уличные танцоры, балерины, дамы и господа и прочие танцующие образовали один дружный бешеный круг. На сцену вбежал Цвет и всучил Зарёву картину, которую тот так и не вынес на сцену. Друзья переглянулись, и Николай, зажав раму под мышкой, юркнул в самый центр хоровода. Антон стал прыгать перед музыкантами, руками направляя их музыку как можно выше к звездам, ведя Банковскую симфонию хаоса к поистине вагнеровскому завершению. И… резкое движение руками вниз – и тишина. Только танцоры как по команде упали на пол. И вот в самом центре сцены среди тишины и лежащих тел стоял Зарёв с высоко поднятой картиной Айвозовского. Секунда, две, три – снято! Занавес.
Свет снова выключился. И запела скрипка. Николай тяжело сел на пол и прислонился к стене закулисья.
– Это было что-то… – кое-как сказал он.
Тяжело дышавший Цвет, упавший рядом с ним на одно колено, ничего не ответил.
– Надо заканчивать. Устроим бал. Персонажи соберутся, господа писатели прочитают свои отрывки – и белый, как лебедь, танец. Идет?
– Не то слово… – кивнул головой Антон.
Вильгельм играл в темноте около семи-восьми минут. Этого было достаточно, чтобы безымянное объединение собралось с силами и организовалось.
Всё было как в балете: одну сторону заняли мужчины, вторую женщины, в руках бокалы, фужеры, бутафория, и все взгляды устремлены вглубь сцены, где на высоком постаменте, словно на мраморной лестнице особняка, стоял герой. Сначала им был Златоусцев, описавший трагедию жителя города Помпеи сквозь призму его любовных интересов. Следом выступал Мирон, размышляя о своем университете и его доктринах. Зарёв отказался быть снова героем, Даня Берк в своей неподражаемой сухой манере поведал миру о сложности жизни с протезами рук в далеком будущем, что было воспринято из-за общей картины выступлений в комичном свете. Цвет спел “Ave Maria”, в своих глазах закрепляя святость происходящего здесь.
– Ты очень хорошо читаешь, давай, – сказал Маша из-за кулис и сунула Зарёву текст в руки.
И вот уже Николай читает чужую поэму, так ее и назвав: «Чужая поэма, написанная от лица девушки». Когда он дочитал последнюю строчку, то был весь красный от подробностей переживаний женского жития. Он положил текст к картине Айвозовского (смысл этого жеста до сих пор не имеет единой трактовки) и спустился к зрителям. Надо было завершать.
В нашей жизни всегда наступает этот момент. Никто не может оказаться к нему готовым. Для кого-то это доказательство существования Бога на земле, для кого-то великая скорбь и печаль. Даже сейчас можно услышать, как тонкая белая ножка в фиолетовых туфлях делает первый шаг на самодельный постамент в центральном зале Банка из былых времен.. Секунда, две, три, четыре, – проносятся, словно само Время размашисто рвет страницы из своего толстого ежедневника и кидает их по ветру. – пять, шесть, семь, восемь, девять, пауза и… Николай поднимает свои серые глаза и Видит. Это эхом отдается во времени, ведь происходящее здесь – это основа всего и самая универсальная сила, которая касается каждого – это искра самой жизни.
Изящный силуэт в вечернем платье находился около микрофона. Но Зарев будет вспоминать не платье, не место встречи, а её глаза. Живые, блестящие, принимающие каждый лучик, каждую улыбку и дуновение, будто они только что пробудились, скинули оковы льда, растопив их. Девушка окинула взглядом публику: прошла мимо Зарёва, но сразу же вернулась к нему.
– Боже, я тону в них.
Молодой человек засмущался, сжал кулаки от нахлынувшего волнения и отвел взгляд. А ангел продолжал на него смотреть. Заиграла музыка.
– С тобой всё хорошо? – толкнул его под бок Цвет.
– Да-да, – Николай поднял голову и натянуто улыбнулся для друга.
И сразу же посмотрел на нее. Гибкая нежная шея, округлые плечи, стройная фигура, обтянутая длинным черным платьем – цвета сумерек зимнего вечера. Она держала в своих руках микрофон и подняла голову к яркому потолку, закусила нижнюю губу и сосредоточенно слушала мелодию, схватывая каждое колебание на холсте тишины. Её светлые волосы до плеч элегантно лежали на левой стороне лица. Свет десятков ламп отражался в ее глазах, будто звезды. Один глаз голубой, а второй – зеленый, свет проникал в самую глубь, вдыхая жизнь, накатывая лазурной волной и сиянием изумрудов. И будто вся вселенная сейчас собралась вокруг нее и кружилась, кружилась, кружилась.
Пальцы пианиста еще несколько раз упали на клавиши, безжалостно вдавливая их и удерживая, не давая вздохнуть. Она закрыла глаза и запела. Зарёв тогда выглядел как мальчишкой, сидящий в комбинезоне, застегнутом на одну лямку, с волосами, торчащими во все стороны, испачканной грязью где-то во дворе щекой, широко раскрытыми глазами, открытым от удивления ртом с молочными зубами и тряпичными кроссовками со стёртой подошвой на босу ногу – именно так он себя тогда чувствовал, провалившись в детский восторг и смятение. А ангел пел, пел так, будто это плакала скрипка. Ее слезы падали жемчужными каплями на бетонные цветы, разбивая их, разрушая серые безжизненные клумбы, и оставались там лежать в ожидании восхода. И когда могучее, поистине рериховское солнце встанет из-за зеленых вершин, то жемчуг расцветет. И не будет больше в мире таких прекрасных цветов, настолько утонченных и легких, что даже ветер не захочет их срывать. А человек – тем более. Но солнца так и не было, а слезы всё падали и падали, падали и падали, падали и… Это была вечная холодная ночь. И ее покидали последние звуки, отголоски света, последняя память о солнце. И дальше – забвение.
Николай не заметил, как она закончила петь. Музыка продолжалась, таинственный пианист (впоследствии оказавшийся Вильгельмом) продолжал играть, и юноши и девушки пошли навстречу другу, образовывая пары и медленно кружась в лебедином танце. Девушка на возвышенности сияла, она поклонилась и посмотрела в тот угол сцены, в которым стоял «мальчишка» с раскрытым ртом. Их взгляды встретились. Два незнакомца, заброшенные на улицы этого огромного мира. Что они? Пыль времени, которую сдуют их внуки с толстого учебника по истории. За окном шел дождь. Настоящий ливень, порывы ветра бросали его на металлические крыши, узкие улочки, ступени домов, смывая грязь и запахи, оставленные этим днем. Сколько людей сейчас надеялись, сколько мечтали, сколько бросили всё и сидели, обхватив голову руками, не зная, что делать. Что они? Пыль, что смоет дождь? И серая-серая фотография с падающим откуда-то спереди светом, что станет историей каждого. И капли стучались, бились, вопили, обрушивались, затопляли, но так и не поняли одного: у нас есть еще кое-что.
И в тот вечер изумруд и лазурь незнакомки блеснули в серых глазах незнакомца. И только сейчас открылась последняя тайна: это была Сирень, та малоприметная девушка с ресепшена, настолько была сильна перемена в ней.
Они пошли навстречу другу и слились в объятиях музыки, смотря друг на друга. Зарёв потерял дар речи. Он просто смотрел на неё, а она улыбалась, улыбалась ему. И чудо произошло. Эти мгновения никогда не понять дождю. Так что же они? Это любовь, любовь друг к другу: их сердца охватило тепло, и обратного пути уже не было. Сирень позже скажет, что в тот вечер она часто закусывала губу, а Николай даже этого не заметил. Влюбленных взгляд окутан туманом света. Они знали, что у них всё будет хорошо.
Цвет и Маша, так хорошо танцующие в центре, медленно переместились к краю сцены, а потом и вовсе исчезли. Музыка стала замедляться, замедляться, торжественный плач клавиш стихал. Внезапно зазвучала гитара, и ее ритм, напор заставили всех остановится и, держась за свою пару, повернуться к постаменту. На него вскочил Цвет в фуражке и длинном шарфе и, улыбнувшись, запел известную песню из известного фильма.
Уставшие актеры, опершись друг на дружку, смотрели на очередную реинкарнацию товарища Бендера, слабо улыбаясь. А Антон разошелся, художественно поочередно взмахивая руками и дотягивая слова до мироновских высот:
Пусть бесится ветер жестокий
В тумане житейских морей,
Белеет мой парус такой одинокий
На фоне стальных кораблей!
Зарёв взял за руку Сирень и сказал:
– Сегодня ты была прекрасна.
– Спасибо, – с нежностью ответила она.
Её крепкие пальцы сжали его руку, и девушка прислонилась к его груди.
– У тебя очень сильно бьется сердце, – прошептала она. – Ты чувствуешь…
Николай крепко держал ее за талию, будто боясь упустить.
А Антон уже заходил на последний круг:
Белеет мой парус такой одинокий
На фоне стальных кораблей!
И из последних сил, будто отдаляясь все дальше и дальше от берега:
Белеет мой парус такой одинокий
На фоне стальных кораблей!
Музыка стихла. Везде включился свет. Антон замер. Они все время сразу же начинали новый номер, не давая зрителям высказать своё мнение аплодисментами. И теперь он и вся остальная труппа стояли перед лицом неизвестности. И тишина. С улицы раздаются взрывы фейерверков – случайность или некий расчет Цвета. Один, второй, третий… Все последующие утонули в шквале аплодисментов. Хлопали даже на сцене: некоторые зрители не усидели и присоединились к общему танцу. Все выдохнули. Успех. Теперь все артисты – на поклон.
Первое, что сделал Антон в закулисье – схватил за руку Зарёва, разлучив его со своей спутницей, и поднялся с ним на нагромождение отработанных декораций.
– Вот он! Вот он! Вот он! – кричал Цвет, подняв его руку как рефери на боксерском поединке, – Вот он – наш король и спаситель! Я растерялся, запаниковал, а он, он! Вы видели этого дерзкого мальчишку?! Что он творил! Дайте, дайте мне что-нибудь, я короную его!
Он отпустил Николая и нагнулся к труппе. Смущенный поэт смотрел на радостные лица и стал смеяться, впервые за весь приезд по-настоящему смеяться.
Взмокший Цвет повернулся к нему и, под общее ликование, торжественно надел на поэта Зарева терновый венец из реквизита.
– У нас получилось! У нас получилось! – завопил он, обняв друга за плечи.
Момент чудесного единства: мы все живы и смотрим в одну сторону.
Николай потерял из виду Сирень и больше ее не нашел. Всеобщая радость, втянувшая его в самый центр, не входила в планы девушки: она куда-то спешила. «Но ничего, – подумал он, – завтра я ее найду, обязательно найду!» Эйфория захватила ведущих творцов и погнала их через весь Невский в «О, Рама!». Труппа была отпущена, и большая уборка за собой назначалась на завтра.
И он шел по улицам города и был готов петь. Ритм сердца гнал Николая вперед, и огни города просыпающимися бутонами расцветали в прекрасные лилии, оплетая своим теплым светом всё вокруг. И звезды в вышине бусинками сыпались вниз как осенние снежинки. И все напасти города затаились где-то в решетках, под брусчаткой, в подвалах, скаля зубы, глухо крича, но кому есть до них дело! Эта ночь – всё. И мы ее властелины. Несемся по городу, не разбирая дорог, потому что каждая принесет нас к чему-то хорошему, настоящему и живому, бурлящему как молодая кровь в этих смеющихся сорванцах. И не было сомнений, и не было преград. И история эта была о крупицах, что падают нам в руки с небес каждый день божий. Успей только поймать.