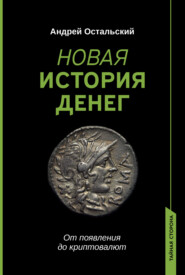По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Что такое Великобритания
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сантименты и привязанности
Страна, в которой я живу почти уже двадцать лет, называется Блайти. Вряд ли вам удастся разыскать ее на карте, но если вы прогуглите английское слово Blighty, то на вас сразу обрушатся тысячи ссылок. Особенно распространено выражение «good old Blighty» – «добрая старая Блайти». Оно стало практически синонимом, заменяющим слово «родина». Населению этой страны неловко признаваться в собственной сентиментальности, в высоких чувствах, в любви к Отчизне. А потому выручает ирония, Блайти выручает.
Уж не знаю, встречается ли такое где-либо еще в мире – кажется, нигде больше посмеиваться над собственными патриотическими чувствами не принято. Так что, возможно, это чисто местный лингвистический феномен. Мыслимое ли дело: взять слегка пренебрежительное прозвание вашей родины в одной из бывших колоний, основательно его исказить и так называть свою страну. Нет, такое бывает только в Блайти.
Сколько себя помню, всегда мечтал в Блайти побывать. Вернее, я долго не знал настоящего названия этой страны и по наивности именовал ее Англией. Тем более что появившаяся в моей жизни удивительная женщина Елена Александровна Васильева меня в этом наивном убеждении всячески поддерживала.
Елена Александровна казалась мне в мои восемь лет очень взрослой, чуть ли не пожилой тетей. А на самом деле ей было слегка за двадцать, она совсем недавно закончила иняз и начала работать в «Интуристе» переводчицей. Опыта преподавания языка у нее не было никакого. А потому и брала она за свои уроки совсем немного, что очень устроило моих небогатых родителей.
Теперь-то я понимаю, что мне тогда просто очень повезло. Елена Александровна оказалась феноменально талантливым педагогом от Бога (о чем наверное, и сама не подозревала). И центральной, главной составляющей этого таланта была, уж не знаю откуда взявшаяся, пылкая, неистовая любовь – к языку и к стране, в которой ей так и не довелось побывать. Так что любовь была заочная, платоническая. Но, наверное, именно поэтому – страшной силы, на грани одержимости. И было в ней невыносимое желание, которое буквально жгло ее изнутри – передать эту любовь, этот сумасшедший восторг еще хоть кому-нибудь. И тут я и попался под руку.
Заразила она меня англофильской бациллой – навсегда. Даже двадцать лет жизни в Англии меня от этой болезни не излечили. Хотя, конечно, восторг несколько поумерили. На смену страсти пришла ровная, теплая привязанность: так любишь близкую родственницу, тетушку, например, или сестру, к которой прикипел сердцем с детства, и мила она тебе, даже если видишь все ее недостатки и склеротические изменения. Что же поделаешь, возраст, а все равно – родная душа, и связывающая с ней ниточка прочна, не разорвать.
И все это еще наложилось у меня к тому же на пример моего деда, дедуси, как было принято его называть, в соответствии с украинско-польским происхождением семейства. Именно он, Порфирий Феофанович, занимался моим воспитанием, так как родители были заняты на работе с утра до ночи. Дедуся же был на пенсии и всю недорастраченную жизненную энергию и тоску по недосостоявшейся, недосбывшейся своей жизни обратил на внука.
Но в том-то и было все дело, что тоска эта тщательно, самым непроницаемым образом скрывалась. Потому что дедуся мой обладал ярко выраженным и довольно редким в России характером английского типа (о чем я, конечно, при его жизни не знал, да и сам он вряд ли догадывался).
Неправильное социальное происхождение (из священников). Неправильное образование – филолог и историк, да еще закончивший Варшавский университет. Наличие неправильного близкого родственника – православного епископа, причем с той же фамилией, да еще объявленного опасным врагом советской власти – все это надо было тщательно скрывать всю жизнь, не только от чужих, но и от семьи, от своих собственных детей. Дедуся правильно рассудил, что «лишнее знание» может погубить юное поколение – пусть себе безмятежно растут пионерами и комсомольцами, ни о чем не догадываясь. Сам «переквалифицировался» в бухгалтеры и упорно отказывался от постоянно предлагаемых повышений (чтобы не заполнять анкет). И никогда и ни при каких обстоятельствах, ни на работе, ни дома – ни слова, ни намека, ни полунамека о политике. Только с внуком, в шестидесятые годы, начал себе кое-что позволять, отдельные ядовитые реплики подавать, не понятые мною тогда, но глубоко запавшие в душу.
Какими же воистину английскими свойствами характера надо было обладать, чтобы всю жизнь свою вот так зажать в кулаке? Беспощадно загнать вглубь, захоронить свои взгляды, вкусы и интеллектуальные запросы, запрятать всего себя истинного и так держать в железной узде всегда и везде, ни разу не сорвавшись. Благодаря этой железной воле и выдержке дедуся исхитрился не попасть под каток репрессий, ушел, как Колобок, от ЧК-ГПУ-НКВД, спас себя и семью, хотя чемоданчик со сменой белья и сухарями всегда стоял наизготовке: вероятность ареста он все же считал очень высокой.
К окружающему миру дедуся – тоже вполне по-английски – относился с легким, скрытым презрением. Чего стоили одни только прелести обитания в большой коммунальной квартире, в которую превратился предназначавшийся когда-то для его семьи отдельный домик в Замоскворечье. Грязь, пьяная ругань, клопы и тараканы, мелкое и крупное хамство со стороны случайных, неряшливых и полуграмотных соседей (не все они были такими – но большинство). Все это близко знакомо, без сомнения, моим соотечественникам старшего поколения. Ничего нового я им тут не открою, это англичанам надо объяснять, что такое коммуналка и почему она сыграла столь значительную роль в формировании советского образа жизни и мышления…
Все терпели, все как-то выживали, хотя душа и протестовала иногда яростно. Но дедуся переносил все невзгоды и превратности судьбы стойко и гордо, отвечая ей, этой несправедливой, нелепой жизни, лишь все тем же внутренним молчаливым презрением, раз и навсегда запретив себе всякие жалобы и нытье и неизменно демонстрируя ту самую знаменитую «жесткую верхнюю губу», которой так гордятся англичане.
Лишь в одном он нарушал неписаные правила джентльмена – позволял себе иногда открыто саркастические, издевательские реплики в ответ на хамство и оскорбления. Мог, например, витиевато, с никому вокруг не понятными аллюзиями, извиняться перед пьяным жлобом, отдавившим ему ногу в трамвае. Настоящий англичанин в такой ситуации просит прощения искренне, без всякого сарказма, просто даже машинально, так крепко в него это вбито с детства – говорить «сорри», если тебя невзначай толкнули или наступили тебе на что-нибудь.
А мой дед доводил иногда жлобов почти до исступления и рисковал спровоцировать их на насилие. Но в большинстве случае хамы просто терялись, не понимая такого языка и не зная, как на него реагировать. Иногда даже имел место желаемый педагогический эффект, когда обидчик решал вдруг повиниться: «Ну что вы, это же я вас толкнул, а не вы меня».
Сарказм – штука в Англии весьма популярная, но применяемая обычно за глаза. Очень даже принято в разговоре с общим знакомым поиздеваться над отсутствующим или – и того лучше – над правительством, местными властями или, например, глупой модой. Но почти никогда, даже в легкой форме, сарказмом не бьют человеку в глаза: это запрещенный прием, удар ниже пояса. Несколько раз я попадал впросак, и друзья и даже начальники в ужасе восклицали: «God, Andrei, you are being sarcastic!»
Реакция при этом была такая, как если бы я выругался в чей-то адрес трехэтажным матом. Поначалу мы с женой недоумевали: разве не лучше сострить, пусть едко, чем прямо сказать резкость? Нет, не лучше, утверждают англичане. Ведь сарказм – по определению – преувеличение, нечто противоположное традиционному преуменьшению, недосказанности. Здесь на такое попрание неписаных правил хорошего тона идут разве что, когда хотят кого-то сильно обидеть…
Но посмотрел бы я на англичан с их «недосказанностями» в России! Хотя почему – «бы»? Собственно, я на них там смотрел, и не раз. Видел, как округляются их глаза и раскрывается в недоумении рот.
Впервые я увидел живых англичан в конце шестидесятых годов. Это были лондонские школьники, мои ровесники, подростки, приехавшие в Москву по обмену. Я был прикреплен к замечательному, веселому, контактному парню по имени Клайв Камберс.
Уже тогда меня поразило совершенно взрослое достоинство, с которым держались наши гости. Не надменность, но именно достоинство, при неизменно спокойной, улыбчивой доброжелательности. Сильный, сдержанный, уверенный в себе Клайв неожиданно чуть было не расплакался, когда я завел ему дома на своей скрипучей «Яузе» сомнительного технического качества запись «Битлз» – «Клуб одиноких сердец». Для него это был просто шок и невероятный сюрприз – на окраине коммунистической Москвы, в хрущевской пятиэтажке, в самый разгар холодной войны – и вдруг любимый диск любимой группы. А для английского подростка того времени «Битлз» были не просто увлечением, а иконой, знаменем, смыслом жизни.
Глядя из дня сегодняшнего, видишь, что, произведя полнейшую революцию во всем мире современной популярной музыки, подняв ее на принципиально новый, более сложный и художественный уровень, «Жуки» доказали своей стране и всему свету еще кое-что. Англия только что лишилась своей империи и казалась теперь уже маленькой хиленькой страной, не имеющей больше особого значения для остального мира. (Говорят, что Хрущев якобы как-то сказал английскому премьеру: «Десятка наших ракет хватит, чтобы от вас осталось мокрое место, но на всякий случай мы приготовили для вас в несколько раз больше».) И вот всемирный феномен «Битлз» убедительно доказал: нет, Англия еще много чего значит, страна все равно остается одним из законодателей и лидеров мировой культуры – совершенно непропорционально ни своей территории, ни размеру, ни даже ВВП. Но, видимо, вполне пропорционально чему-то другому, не исчисляемому в цифрах.
Например, музыкальному гению Маккартни и Леннона. Или величию души британских лидеров, таких как министр обороны Денис Хили, который в разгар холодной войны решил для себя: даже если Британия будет уничтожена в результате внезапного советского ракетного нападения, ответного ядерного удара наносить не нужно. Какой в этом смысл: взять и убить в отместку несколько миллионов русских, большинство из которых – мирные жители. Ведь погибших британцев все равно уже не вернешь… Так считал не он один в британском руководстве, но до поры до времени об этом нельзя было говорить вслух, иначе перестал бы работать фактор сдерживания. Тайна эта была раскрыта только после окончания холодной войны.
И еще величие страны в ощущениях, которых не выразить словами. Иногда даже в каких-то пустяках, в мелких деталях бытия. В том, какие безупречные манеры и произношение у кондуктора в поезде, как остроумен и приветлив твой слегка ироничный дантист. Как часто ты слышишь диковинное слово «сэр» в свой адрес. Как прекрасны старинные улицы Лондона, например Флит-стрит. Сколько бы раз ни ходил я по ней, она никак не может мне надоесть. Несмотря на то, что мне иногда приходится идти по ней к зубному врачу и, честно говоря, веселее любоваться ею бывает на обратном пути. Хотя нелепо мне бояться своего дантиста, но это, видно, какое-то древнее и подсознательное, иррациональное чувство. Неизбывный рефлекс, приобретенный в детстве. А ведь Тимоти Блэкни, которого когда-то порекомендовали мне коллеги по «Файнэншл таймс», выполнил свое обещание, данное восемнадцать лет назад: за все эти годы мне ни разу не было больно. Он давно лечит всю нашу семью и сам стал для нас кем-то вроде родственника. Иногда я говорю, якобы в шутку, что ради одного этого – возможности поручить ему заботу о своих зубах – стоило переехать жить в Англию.
И все равно приятно бывает сознавать, что визит к зубному позади, что теперь я не увижу друга Тимоти целых полгода. А если еще погода выдастся приличная, если выглянет солнце, ветер стихнет… Флит-стрит предстает во всем своем великолепии. Никогда не устаю от этого сюрреалистического зрелища – готических силуэтов на фоне бледного нежного неба, особенно любо смотрятся они, когда солнечные лучи ласково обтекают их со всех сторон, подчеркивая торжественность линий. Знаю, знаю, готика не настоящая, стилизация более поздней игривой эпохи, но все равно красиво. И узкие разноцветные трехэтажные дома словно декорации в кукольном театре, все вокруг как будто чуть-чуть игрушечное, однако дела здесь, на Флит-стрит, всегда творились нешуточные: и в адвокатских конторах и, тем более, в банках, где ворочали миллионами, и в редакциях газет, которые теперь, впрочем, все отсюда переехали подальше, уж очень здесь дорого… Вон «Брэкен-хаус», где долгие годы размещалась моя родная «Файнэншл таймс», открывшая мне ворота в Англию. Здесь, в этом здании, газета обрела свою всемирную славу. А здание, кстати, удивительное. Некоторые говорят: уродство, а мне кажется – поразительной красоты! Классический, фундаментальный фасад и необычная, из стекла и черного металла, «гармошка» с боков… А каким мрамором отделан холл! Любой банк позавидовал бы… Ну и дозавидовались – здание купили богатые японцы. Вырученных денег хватило на то, чтобы построить неподалеку, на южном берегу Темзы, модернистский черный куб, вызывающий у меня ассоциации с квадратом Малевича – квадратом в квадрате, в кубе. Когда-то работая здесь, в редакции, я постепенно добился того, что меня перестали замечать, перестали оглядываться на меня, как на некий чужеродный элемент. Именно тогда я почерпнул для себя много новых английских выражений, которых, может, и сама Елена Александровна не слыхивала. Например, узнал, что «Monday week» означает вовсе не «неделю понедельника», как можно было бы подумать, а «второй понедельник», то есть не ближайший, а тот, что будет через один. Или что мужа называют не «husband», a «hubby». Что «Cracking!» – это возглас восхищения (не путать с «Crikey», выражающим удивление высшей меры, идущим от «Крайст» – Христос). Что «to get plastered» означает вовсе не покрыться штукатуркой или гипсом и не стать объектом лести, а совсем даже наоборот – напиться до полубессознательного состояния. А также усвоил, что существует тончайшее различие между двумя другими выражениями удивления: «dear те» и «oh, dear!». И еще познал я сокровенную тайну: что именно сказала актриса епископу и что он сказал ей в ответ. И еще очень много всякого другого.
И это странное слово: Блайти, его я там тоже впервые услыхал. Не сразу разобрался, что это такое. Постепенно выяснилось, что мне его лучше не употреблять никогда – неизбежно получится и не к месту, и с неправильной интонацией. А откопали его англичане в Индии, где слово «билайати» стало означать иностранца (возможно, придя от арабов через Турцию и Иран и несколько раз по пути трансформировавшись и поменяв смысл).
Особенно широко стали это слово-замену употреблять в окопах Первой мировой войны, где всех мучила тоска по Англии, но нельзя было в этом признаваться. Никак невозможно было выговорить высокопарное слово «родина», вот и приходила на помощь «good old Blighty». Там, в окопах, родилось и выражение «blighty wound», или даже чаще – «blighty one», то есть рана, несмертельная, но достаточно серьезная, чтобы тебя отправили лечиться не в полевой госпиталь, а на родину, в Англию. О такой ране тайно мечтали. Случалось и так, что солдаты брали осуществление мечты в свои руки. За самострел, конечно, наказывали. В Первую мировую несколько тысяч человек поймали, изобличили и отдали под трибунал. Теоретически все они должны были быть расстреляны, но всех их помиловали и наказали другими способами (иногда длительными сроками заключения).
Тем не менее в 1916 году, в разгар войны, одним из хитов сезона стала песня «Как я рад, что заполучил небольшую Блайти». Содержание: солдат вполне откровенно выражает свой восторг по тому поводу, что вражеская пуля, не убив и не покалечив, отправила его на родину.
И вот что весьма показательно: подобную совсем не героическую песню не позволили бы распевать ни в России, ни в Германии, да и во Франции вряд ли бы это допустили. Ни в Первую, ни тем более во Вторую мировую войну. Да и вообще нигде, кроме Англии, такое, наверное, невозможно. Английским генералам, кстати, эта песня тоже активно не нравилась, но они могли ворчать по этому поводу сколько угодно – запретить ее они все равно не могли.
И еще хорошее название модного мюзикла тех же времен: «The Queen is dead» («Королева умерла»). Вообразите себе афиши, расклеенные по Москве с рекламой нового спектакля в Театре оперетты: «Генеральный секретарь скончался». Или – «Смерть жены генсека». Ну, или, если дело происходило бы еще до революции, «Императрица умерла». Не можете? И я не могу.
При этом англичане хорошо воевали. Хотя случались и у них, разумеется, дезертирство и самострелы.
Во время Второй мировой войны слово «Блайти» снова стало очень популярно. Но вот за последние пятьдесят лет правила дополнительно усложнились. Теперь в живом разговоре, скажем на улице, этого слова вообще никогда не услышишь, однако изощренная интеллигенция, вроде моих коллег по «ФТ», использует его, но в очень сложном и запутанном контексте – этакой двойной иронии. Потому что как слово-заменитель «Блайти» уже больше не работает. Оно само теперь стало звучать слишком сентиментально для сегодняшнего иронического века. Но если есть желание подтрунивать над нравами прошлого, над ностальгией, над империей и так далее, тогда оно вполне сгодится. Или если хочешь посмеяться над смеющимися… В общем, двойной, тройной смысл.
Дружба по-английски
Прямо напротив кафе «Гугиз» в самом центре Фолкстона стоит несколько странно здесь смотрящееся здание со стеклянными стенами. Раньше в нем размещалась пиццерия (с претензией), но претензия не сработала, и заведение разорилось. Теперь тут находится ресторан восточной кухни, работающий по принципу «ешь до отвала» – и днем, и вечером – так называемый шведский стол. С неограниченным количеством подходов. Около шестидесяти блюд китайской, индийской, индонезийской, сингапурской, таиландской и прочей азиатской кухни.
Таких заведений довольно много в графстве Кент, а тем более в Лондоне. Таких, да не совсем. Прежде всего здесь необычный обслуживающий персонал.
Долгое время, регулярно встречая в поезде группы молодых, подтянутых, серьезных, молчаливых мужчин ярко выраженной азиатской внешности, я терялся в догадках: кто это такие? И не китайцы, и не японцы, и не корейцы. И на филиппинцев тоже не похожи. И почему они всегда передвигаются группами? И откуда взялась выправка?
Оказалось, что это непальцы. Гуркхи. И у них тут, на окраине Фолкстона, «гнездо» – официальная штаб-квартира.
Гуркхи – это непальские солдаты, издавна составляющие особое подразделение британской армии. Славятся отчаянной, феноменальной отвагой, строжайшей дисциплиной и в то же время страшной свирепостью. Они всегда на самых опасных участках фронта, первыми идут в прорыв, и, говорят, нет ничего страшнее, чем штыковая атака гуркхов.
Много десятилетий порядок был такой: британское правительство заключало контракт с молодыми непальцами, которые, отслужив и провоевав за Альбион лет двадцать, не имели права затем остаться в Англии, а должны были отправляться восвояси. Деньги им платили достаточно скромные, но, учитывая нищету в Непале, солдатские переводы кормили большие семьи.
Однако постепенно порядок смягчался, стали делать все больше исключений – для женившихся на британках, для награжденных высшими военными наградами и тяжело раненных в бою и так далее. Сейчас, кажется, уже всем, выполнившим условия контракта, предоставляется право поселиться на Британских островах; им платят пенсии и так далее. Но это – недавнее достижение английской общественности, организовавшей мощную кампанию в поддержку гуркхов.
Еще несколько лет назад в Фолкстоне образовалась небольшая колония, и дело дошло до того, что отставные гуркхи открыли в городе свой ресторан. Они здесь и повара, и официанты, и уборщики, и администраторы. И все организовали с присущей им военной четкостью – и обслуживание, и неукоснительное следование рецептам, и идеальную чистоту обеспечили. Правда, обстановка – тоже по-военному аскетичная, без излишеств, украшений и выкрутасов. Но главное, еда: все очень качественное, свежее, вкусное.
Недавно в Фолкстоне снова побывали наши друзья – Уилл и Лори. Мы ждали их приезда целый год, и все, слава богу, прошло без сучка и задоринки.
Поначалу мы с женой и дочкой собирались потчевать гостей образчиками русской кухни, но в последний момент передумали. Во-первых, весь наш русский кулинарный репертуар Уилл и Лори уже перепробовали, а изобретать вариации на одну и ту же тему довольно скучно. Во-вторых, удалось выяснить, что оба они любят восточную кухню, которая еще не успела им надоесть, поскольку супруги вращаются в основном в кругах, где такая пища не очень принята. Так что для них в утке по-пекински, королевских креветках в чесночном соусе, лапше по-сингапурски и прочих подобных блюдах сохраняется элемент еще не поблекшей экзотики. И вот пришло нам в голову пригласить друзей в ресторан гуркхов.
Через неделю, как полагается, пришло благодарственное письмо, адресованное нам обоим.
Помню, как мы удивились, когда такое случилось в первый раз: мы получили тогда эпистолярное послание от Лори после их первого с Уиллом обеда в нашей лондонской квартире. Откуда нам, приехавшим из России, было знать про это английское правило: после домашнего обеда, ужина и так далее надо обязательно послать хозяевам подробное письмо с выражением благодарности. Это как раз одно из редчайших исключений из правила недосказанности и недоговоренности. В таких письмах, наоборот, допустимы и даже необходимы преувеличения. Полагается выразить определенный восторг по поводу угощения. При этом надо довольно подробно перечислить основные блюда, напитки и так далее. Написано письмо должно быть непременно от руки и дамой, супругой гостя, а не главой семьи.
Судя по всему, это правило действует теперь уже только в высших слоях английского общества, а средний современный британец в лучшем случае пришлет пару слов по электронной почте или скинет короткую эсэмэску на мобильный, а то и вовсе забудет поблагодарить хозяев.
Но в особых, торжественных или печальных случаях это правило – отправлять написанные от руки послания благодарности (или соболезнования) – все еще широко соблюдается.
Например, однажды на Би-би-си неожиданно умер молодой и талантливый русский журналист. Отпевать его надо было по православному обряду, нашелся замечательный священник, но английское начальство пребывало в замешательстве, не зная точно, как себя вести и как следует держаться, чтобы не нарушить наших, неведомых им правил. И мне выпало быть чем-то вроде неформального лидера во время этой грустной, но красивой церемонии.
Я далеко не специалист в таких делах, но вроде бы справился: все прошло гладко. Через пару дней я получил подробное благодарственное письмо, написанное от руки лично директором-распорядителем Всемирной службы Би-би-си Марком Байфордом. Из чего я сделал вывод: такие вещи здесь обязательны.
А вот воспоминание, относящееся к тому периоду, когда «Файнэншл таймс» сотрудничала с «Известиями». Тоже, кстати, связанное с траурной темой. Скончался один из технических руководителей российской газеты. Англичане немедленно послали партнерам свои соболезнования. И удивились, когда не получили на них ответа. Один из директоров «ФТ» даже спросил меня потихоньку: не является ли это признаком охлаждения отношений? Уверен ли я, что «Известия» хотят продолжать сотрудничество? Вот такие далеко идущие выводы были почти уже сделаны из молчания российской стороны. Я, конечно, заверил директора, что это ровно ничего не значит, что это лишь проявление различий в культурах и традициях двух стран. В России редко отвечают на официальные соболезнования, разве что в каких-то исключительных случаях. Хотя, кстати, до революции, насколько мне известно, такая традиция существовала. (А в советское время отвечали всем скопом через газету.)
Благодарственное письмо есть, конечно, лишь дань вежливости, но все-таки нам с женой показалось, что гостям ресторан гуркхов на самом деле понравился. Все-таки разнообразие по сравнению со всеми этими фуа-гра, перепелками в трюфельном соусе, фазанами и всяким таким прочим. (Фазанов, кстати, они разводят в своем поместье в Суссексе).
Страна, в которой я живу почти уже двадцать лет, называется Блайти. Вряд ли вам удастся разыскать ее на карте, но если вы прогуглите английское слово Blighty, то на вас сразу обрушатся тысячи ссылок. Особенно распространено выражение «good old Blighty» – «добрая старая Блайти». Оно стало практически синонимом, заменяющим слово «родина». Населению этой страны неловко признаваться в собственной сентиментальности, в высоких чувствах, в любви к Отчизне. А потому выручает ирония, Блайти выручает.
Уж не знаю, встречается ли такое где-либо еще в мире – кажется, нигде больше посмеиваться над собственными патриотическими чувствами не принято. Так что, возможно, это чисто местный лингвистический феномен. Мыслимое ли дело: взять слегка пренебрежительное прозвание вашей родины в одной из бывших колоний, основательно его исказить и так называть свою страну. Нет, такое бывает только в Блайти.
Сколько себя помню, всегда мечтал в Блайти побывать. Вернее, я долго не знал настоящего названия этой страны и по наивности именовал ее Англией. Тем более что появившаяся в моей жизни удивительная женщина Елена Александровна Васильева меня в этом наивном убеждении всячески поддерживала.
Елена Александровна казалась мне в мои восемь лет очень взрослой, чуть ли не пожилой тетей. А на самом деле ей было слегка за двадцать, она совсем недавно закончила иняз и начала работать в «Интуристе» переводчицей. Опыта преподавания языка у нее не было никакого. А потому и брала она за свои уроки совсем немного, что очень устроило моих небогатых родителей.
Теперь-то я понимаю, что мне тогда просто очень повезло. Елена Александровна оказалась феноменально талантливым педагогом от Бога (о чем наверное, и сама не подозревала). И центральной, главной составляющей этого таланта была, уж не знаю откуда взявшаяся, пылкая, неистовая любовь – к языку и к стране, в которой ей так и не довелось побывать. Так что любовь была заочная, платоническая. Но, наверное, именно поэтому – страшной силы, на грани одержимости. И было в ней невыносимое желание, которое буквально жгло ее изнутри – передать эту любовь, этот сумасшедший восторг еще хоть кому-нибудь. И тут я и попался под руку.
Заразила она меня англофильской бациллой – навсегда. Даже двадцать лет жизни в Англии меня от этой болезни не излечили. Хотя, конечно, восторг несколько поумерили. На смену страсти пришла ровная, теплая привязанность: так любишь близкую родственницу, тетушку, например, или сестру, к которой прикипел сердцем с детства, и мила она тебе, даже если видишь все ее недостатки и склеротические изменения. Что же поделаешь, возраст, а все равно – родная душа, и связывающая с ней ниточка прочна, не разорвать.
И все это еще наложилось у меня к тому же на пример моего деда, дедуси, как было принято его называть, в соответствии с украинско-польским происхождением семейства. Именно он, Порфирий Феофанович, занимался моим воспитанием, так как родители были заняты на работе с утра до ночи. Дедуся же был на пенсии и всю недорастраченную жизненную энергию и тоску по недосостоявшейся, недосбывшейся своей жизни обратил на внука.
Но в том-то и было все дело, что тоска эта тщательно, самым непроницаемым образом скрывалась. Потому что дедуся мой обладал ярко выраженным и довольно редким в России характером английского типа (о чем я, конечно, при его жизни не знал, да и сам он вряд ли догадывался).
Неправильное социальное происхождение (из священников). Неправильное образование – филолог и историк, да еще закончивший Варшавский университет. Наличие неправильного близкого родственника – православного епископа, причем с той же фамилией, да еще объявленного опасным врагом советской власти – все это надо было тщательно скрывать всю жизнь, не только от чужих, но и от семьи, от своих собственных детей. Дедуся правильно рассудил, что «лишнее знание» может погубить юное поколение – пусть себе безмятежно растут пионерами и комсомольцами, ни о чем не догадываясь. Сам «переквалифицировался» в бухгалтеры и упорно отказывался от постоянно предлагаемых повышений (чтобы не заполнять анкет). И никогда и ни при каких обстоятельствах, ни на работе, ни дома – ни слова, ни намека, ни полунамека о политике. Только с внуком, в шестидесятые годы, начал себе кое-что позволять, отдельные ядовитые реплики подавать, не понятые мною тогда, но глубоко запавшие в душу.
Какими же воистину английскими свойствами характера надо было обладать, чтобы всю жизнь свою вот так зажать в кулаке? Беспощадно загнать вглубь, захоронить свои взгляды, вкусы и интеллектуальные запросы, запрятать всего себя истинного и так держать в железной узде всегда и везде, ни разу не сорвавшись. Благодаря этой железной воле и выдержке дедуся исхитрился не попасть под каток репрессий, ушел, как Колобок, от ЧК-ГПУ-НКВД, спас себя и семью, хотя чемоданчик со сменой белья и сухарями всегда стоял наизготовке: вероятность ареста он все же считал очень высокой.
К окружающему миру дедуся – тоже вполне по-английски – относился с легким, скрытым презрением. Чего стоили одни только прелести обитания в большой коммунальной квартире, в которую превратился предназначавшийся когда-то для его семьи отдельный домик в Замоскворечье. Грязь, пьяная ругань, клопы и тараканы, мелкое и крупное хамство со стороны случайных, неряшливых и полуграмотных соседей (не все они были такими – но большинство). Все это близко знакомо, без сомнения, моим соотечественникам старшего поколения. Ничего нового я им тут не открою, это англичанам надо объяснять, что такое коммуналка и почему она сыграла столь значительную роль в формировании советского образа жизни и мышления…
Все терпели, все как-то выживали, хотя душа и протестовала иногда яростно. Но дедуся переносил все невзгоды и превратности судьбы стойко и гордо, отвечая ей, этой несправедливой, нелепой жизни, лишь все тем же внутренним молчаливым презрением, раз и навсегда запретив себе всякие жалобы и нытье и неизменно демонстрируя ту самую знаменитую «жесткую верхнюю губу», которой так гордятся англичане.
Лишь в одном он нарушал неписаные правила джентльмена – позволял себе иногда открыто саркастические, издевательские реплики в ответ на хамство и оскорбления. Мог, например, витиевато, с никому вокруг не понятными аллюзиями, извиняться перед пьяным жлобом, отдавившим ему ногу в трамвае. Настоящий англичанин в такой ситуации просит прощения искренне, без всякого сарказма, просто даже машинально, так крепко в него это вбито с детства – говорить «сорри», если тебя невзначай толкнули или наступили тебе на что-нибудь.
А мой дед доводил иногда жлобов почти до исступления и рисковал спровоцировать их на насилие. Но в большинстве случае хамы просто терялись, не понимая такого языка и не зная, как на него реагировать. Иногда даже имел место желаемый педагогический эффект, когда обидчик решал вдруг повиниться: «Ну что вы, это же я вас толкнул, а не вы меня».
Сарказм – штука в Англии весьма популярная, но применяемая обычно за глаза. Очень даже принято в разговоре с общим знакомым поиздеваться над отсутствующим или – и того лучше – над правительством, местными властями или, например, глупой модой. Но почти никогда, даже в легкой форме, сарказмом не бьют человеку в глаза: это запрещенный прием, удар ниже пояса. Несколько раз я попадал впросак, и друзья и даже начальники в ужасе восклицали: «God, Andrei, you are being sarcastic!»
Реакция при этом была такая, как если бы я выругался в чей-то адрес трехэтажным матом. Поначалу мы с женой недоумевали: разве не лучше сострить, пусть едко, чем прямо сказать резкость? Нет, не лучше, утверждают англичане. Ведь сарказм – по определению – преувеличение, нечто противоположное традиционному преуменьшению, недосказанности. Здесь на такое попрание неписаных правил хорошего тона идут разве что, когда хотят кого-то сильно обидеть…
Но посмотрел бы я на англичан с их «недосказанностями» в России! Хотя почему – «бы»? Собственно, я на них там смотрел, и не раз. Видел, как округляются их глаза и раскрывается в недоумении рот.
Впервые я увидел живых англичан в конце шестидесятых годов. Это были лондонские школьники, мои ровесники, подростки, приехавшие в Москву по обмену. Я был прикреплен к замечательному, веселому, контактному парню по имени Клайв Камберс.
Уже тогда меня поразило совершенно взрослое достоинство, с которым держались наши гости. Не надменность, но именно достоинство, при неизменно спокойной, улыбчивой доброжелательности. Сильный, сдержанный, уверенный в себе Клайв неожиданно чуть было не расплакался, когда я завел ему дома на своей скрипучей «Яузе» сомнительного технического качества запись «Битлз» – «Клуб одиноких сердец». Для него это был просто шок и невероятный сюрприз – на окраине коммунистической Москвы, в хрущевской пятиэтажке, в самый разгар холодной войны – и вдруг любимый диск любимой группы. А для английского подростка того времени «Битлз» были не просто увлечением, а иконой, знаменем, смыслом жизни.
Глядя из дня сегодняшнего, видишь, что, произведя полнейшую революцию во всем мире современной популярной музыки, подняв ее на принципиально новый, более сложный и художественный уровень, «Жуки» доказали своей стране и всему свету еще кое-что. Англия только что лишилась своей империи и казалась теперь уже маленькой хиленькой страной, не имеющей больше особого значения для остального мира. (Говорят, что Хрущев якобы как-то сказал английскому премьеру: «Десятка наших ракет хватит, чтобы от вас осталось мокрое место, но на всякий случай мы приготовили для вас в несколько раз больше».) И вот всемирный феномен «Битлз» убедительно доказал: нет, Англия еще много чего значит, страна все равно остается одним из законодателей и лидеров мировой культуры – совершенно непропорционально ни своей территории, ни размеру, ни даже ВВП. Но, видимо, вполне пропорционально чему-то другому, не исчисляемому в цифрах.
Например, музыкальному гению Маккартни и Леннона. Или величию души британских лидеров, таких как министр обороны Денис Хили, который в разгар холодной войны решил для себя: даже если Британия будет уничтожена в результате внезапного советского ракетного нападения, ответного ядерного удара наносить не нужно. Какой в этом смысл: взять и убить в отместку несколько миллионов русских, большинство из которых – мирные жители. Ведь погибших британцев все равно уже не вернешь… Так считал не он один в британском руководстве, но до поры до времени об этом нельзя было говорить вслух, иначе перестал бы работать фактор сдерживания. Тайна эта была раскрыта только после окончания холодной войны.
И еще величие страны в ощущениях, которых не выразить словами. Иногда даже в каких-то пустяках, в мелких деталях бытия. В том, какие безупречные манеры и произношение у кондуктора в поезде, как остроумен и приветлив твой слегка ироничный дантист. Как часто ты слышишь диковинное слово «сэр» в свой адрес. Как прекрасны старинные улицы Лондона, например Флит-стрит. Сколько бы раз ни ходил я по ней, она никак не может мне надоесть. Несмотря на то, что мне иногда приходится идти по ней к зубному врачу и, честно говоря, веселее любоваться ею бывает на обратном пути. Хотя нелепо мне бояться своего дантиста, но это, видно, какое-то древнее и подсознательное, иррациональное чувство. Неизбывный рефлекс, приобретенный в детстве. А ведь Тимоти Блэкни, которого когда-то порекомендовали мне коллеги по «Файнэншл таймс», выполнил свое обещание, данное восемнадцать лет назад: за все эти годы мне ни разу не было больно. Он давно лечит всю нашу семью и сам стал для нас кем-то вроде родственника. Иногда я говорю, якобы в шутку, что ради одного этого – возможности поручить ему заботу о своих зубах – стоило переехать жить в Англию.
И все равно приятно бывает сознавать, что визит к зубному позади, что теперь я не увижу друга Тимоти целых полгода. А если еще погода выдастся приличная, если выглянет солнце, ветер стихнет… Флит-стрит предстает во всем своем великолепии. Никогда не устаю от этого сюрреалистического зрелища – готических силуэтов на фоне бледного нежного неба, особенно любо смотрятся они, когда солнечные лучи ласково обтекают их со всех сторон, подчеркивая торжественность линий. Знаю, знаю, готика не настоящая, стилизация более поздней игривой эпохи, но все равно красиво. И узкие разноцветные трехэтажные дома словно декорации в кукольном театре, все вокруг как будто чуть-чуть игрушечное, однако дела здесь, на Флит-стрит, всегда творились нешуточные: и в адвокатских конторах и, тем более, в банках, где ворочали миллионами, и в редакциях газет, которые теперь, впрочем, все отсюда переехали подальше, уж очень здесь дорого… Вон «Брэкен-хаус», где долгие годы размещалась моя родная «Файнэншл таймс», открывшая мне ворота в Англию. Здесь, в этом здании, газета обрела свою всемирную славу. А здание, кстати, удивительное. Некоторые говорят: уродство, а мне кажется – поразительной красоты! Классический, фундаментальный фасад и необычная, из стекла и черного металла, «гармошка» с боков… А каким мрамором отделан холл! Любой банк позавидовал бы… Ну и дозавидовались – здание купили богатые японцы. Вырученных денег хватило на то, чтобы построить неподалеку, на южном берегу Темзы, модернистский черный куб, вызывающий у меня ассоциации с квадратом Малевича – квадратом в квадрате, в кубе. Когда-то работая здесь, в редакции, я постепенно добился того, что меня перестали замечать, перестали оглядываться на меня, как на некий чужеродный элемент. Именно тогда я почерпнул для себя много новых английских выражений, которых, может, и сама Елена Александровна не слыхивала. Например, узнал, что «Monday week» означает вовсе не «неделю понедельника», как можно было бы подумать, а «второй понедельник», то есть не ближайший, а тот, что будет через один. Или что мужа называют не «husband», a «hubby». Что «Cracking!» – это возглас восхищения (не путать с «Crikey», выражающим удивление высшей меры, идущим от «Крайст» – Христос). Что «to get plastered» означает вовсе не покрыться штукатуркой или гипсом и не стать объектом лести, а совсем даже наоборот – напиться до полубессознательного состояния. А также усвоил, что существует тончайшее различие между двумя другими выражениями удивления: «dear те» и «oh, dear!». И еще познал я сокровенную тайну: что именно сказала актриса епископу и что он сказал ей в ответ. И еще очень много всякого другого.
И это странное слово: Блайти, его я там тоже впервые услыхал. Не сразу разобрался, что это такое. Постепенно выяснилось, что мне его лучше не употреблять никогда – неизбежно получится и не к месту, и с неправильной интонацией. А откопали его англичане в Индии, где слово «билайати» стало означать иностранца (возможно, придя от арабов через Турцию и Иран и несколько раз по пути трансформировавшись и поменяв смысл).
Особенно широко стали это слово-замену употреблять в окопах Первой мировой войны, где всех мучила тоска по Англии, но нельзя было в этом признаваться. Никак невозможно было выговорить высокопарное слово «родина», вот и приходила на помощь «good old Blighty». Там, в окопах, родилось и выражение «blighty wound», или даже чаще – «blighty one», то есть рана, несмертельная, но достаточно серьезная, чтобы тебя отправили лечиться не в полевой госпиталь, а на родину, в Англию. О такой ране тайно мечтали. Случалось и так, что солдаты брали осуществление мечты в свои руки. За самострел, конечно, наказывали. В Первую мировую несколько тысяч человек поймали, изобличили и отдали под трибунал. Теоретически все они должны были быть расстреляны, но всех их помиловали и наказали другими способами (иногда длительными сроками заключения).
Тем не менее в 1916 году, в разгар войны, одним из хитов сезона стала песня «Как я рад, что заполучил небольшую Блайти». Содержание: солдат вполне откровенно выражает свой восторг по тому поводу, что вражеская пуля, не убив и не покалечив, отправила его на родину.
И вот что весьма показательно: подобную совсем не героическую песню не позволили бы распевать ни в России, ни в Германии, да и во Франции вряд ли бы это допустили. Ни в Первую, ни тем более во Вторую мировую войну. Да и вообще нигде, кроме Англии, такое, наверное, невозможно. Английским генералам, кстати, эта песня тоже активно не нравилась, но они могли ворчать по этому поводу сколько угодно – запретить ее они все равно не могли.
И еще хорошее название модного мюзикла тех же времен: «The Queen is dead» («Королева умерла»). Вообразите себе афиши, расклеенные по Москве с рекламой нового спектакля в Театре оперетты: «Генеральный секретарь скончался». Или – «Смерть жены генсека». Ну, или, если дело происходило бы еще до революции, «Императрица умерла». Не можете? И я не могу.
При этом англичане хорошо воевали. Хотя случались и у них, разумеется, дезертирство и самострелы.
Во время Второй мировой войны слово «Блайти» снова стало очень популярно. Но вот за последние пятьдесят лет правила дополнительно усложнились. Теперь в живом разговоре, скажем на улице, этого слова вообще никогда не услышишь, однако изощренная интеллигенция, вроде моих коллег по «ФТ», использует его, но в очень сложном и запутанном контексте – этакой двойной иронии. Потому что как слово-заменитель «Блайти» уже больше не работает. Оно само теперь стало звучать слишком сентиментально для сегодняшнего иронического века. Но если есть желание подтрунивать над нравами прошлого, над ностальгией, над империей и так далее, тогда оно вполне сгодится. Или если хочешь посмеяться над смеющимися… В общем, двойной, тройной смысл.
Дружба по-английски
Прямо напротив кафе «Гугиз» в самом центре Фолкстона стоит несколько странно здесь смотрящееся здание со стеклянными стенами. Раньше в нем размещалась пиццерия (с претензией), но претензия не сработала, и заведение разорилось. Теперь тут находится ресторан восточной кухни, работающий по принципу «ешь до отвала» – и днем, и вечером – так называемый шведский стол. С неограниченным количеством подходов. Около шестидесяти блюд китайской, индийской, индонезийской, сингапурской, таиландской и прочей азиатской кухни.
Таких заведений довольно много в графстве Кент, а тем более в Лондоне. Таких, да не совсем. Прежде всего здесь необычный обслуживающий персонал.
Долгое время, регулярно встречая в поезде группы молодых, подтянутых, серьезных, молчаливых мужчин ярко выраженной азиатской внешности, я терялся в догадках: кто это такие? И не китайцы, и не японцы, и не корейцы. И на филиппинцев тоже не похожи. И почему они всегда передвигаются группами? И откуда взялась выправка?
Оказалось, что это непальцы. Гуркхи. И у них тут, на окраине Фолкстона, «гнездо» – официальная штаб-квартира.
Гуркхи – это непальские солдаты, издавна составляющие особое подразделение британской армии. Славятся отчаянной, феноменальной отвагой, строжайшей дисциплиной и в то же время страшной свирепостью. Они всегда на самых опасных участках фронта, первыми идут в прорыв, и, говорят, нет ничего страшнее, чем штыковая атака гуркхов.
Много десятилетий порядок был такой: британское правительство заключало контракт с молодыми непальцами, которые, отслужив и провоевав за Альбион лет двадцать, не имели права затем остаться в Англии, а должны были отправляться восвояси. Деньги им платили достаточно скромные, но, учитывая нищету в Непале, солдатские переводы кормили большие семьи.
Однако постепенно порядок смягчался, стали делать все больше исключений – для женившихся на британках, для награжденных высшими военными наградами и тяжело раненных в бою и так далее. Сейчас, кажется, уже всем, выполнившим условия контракта, предоставляется право поселиться на Британских островах; им платят пенсии и так далее. Но это – недавнее достижение английской общественности, организовавшей мощную кампанию в поддержку гуркхов.
Еще несколько лет назад в Фолкстоне образовалась небольшая колония, и дело дошло до того, что отставные гуркхи открыли в городе свой ресторан. Они здесь и повара, и официанты, и уборщики, и администраторы. И все организовали с присущей им военной четкостью – и обслуживание, и неукоснительное следование рецептам, и идеальную чистоту обеспечили. Правда, обстановка – тоже по-военному аскетичная, без излишеств, украшений и выкрутасов. Но главное, еда: все очень качественное, свежее, вкусное.
Недавно в Фолкстоне снова побывали наши друзья – Уилл и Лори. Мы ждали их приезда целый год, и все, слава богу, прошло без сучка и задоринки.
Поначалу мы с женой и дочкой собирались потчевать гостей образчиками русской кухни, но в последний момент передумали. Во-первых, весь наш русский кулинарный репертуар Уилл и Лори уже перепробовали, а изобретать вариации на одну и ту же тему довольно скучно. Во-вторых, удалось выяснить, что оба они любят восточную кухню, которая еще не успела им надоесть, поскольку супруги вращаются в основном в кругах, где такая пища не очень принята. Так что для них в утке по-пекински, королевских креветках в чесночном соусе, лапше по-сингапурски и прочих подобных блюдах сохраняется элемент еще не поблекшей экзотики. И вот пришло нам в голову пригласить друзей в ресторан гуркхов.
Через неделю, как полагается, пришло благодарственное письмо, адресованное нам обоим.
Помню, как мы удивились, когда такое случилось в первый раз: мы получили тогда эпистолярное послание от Лори после их первого с Уиллом обеда в нашей лондонской квартире. Откуда нам, приехавшим из России, было знать про это английское правило: после домашнего обеда, ужина и так далее надо обязательно послать хозяевам подробное письмо с выражением благодарности. Это как раз одно из редчайших исключений из правила недосказанности и недоговоренности. В таких письмах, наоборот, допустимы и даже необходимы преувеличения. Полагается выразить определенный восторг по поводу угощения. При этом надо довольно подробно перечислить основные блюда, напитки и так далее. Написано письмо должно быть непременно от руки и дамой, супругой гостя, а не главой семьи.
Судя по всему, это правило действует теперь уже только в высших слоях английского общества, а средний современный британец в лучшем случае пришлет пару слов по электронной почте или скинет короткую эсэмэску на мобильный, а то и вовсе забудет поблагодарить хозяев.
Но в особых, торжественных или печальных случаях это правило – отправлять написанные от руки послания благодарности (или соболезнования) – все еще широко соблюдается.
Например, однажды на Би-би-си неожиданно умер молодой и талантливый русский журналист. Отпевать его надо было по православному обряду, нашелся замечательный священник, но английское начальство пребывало в замешательстве, не зная точно, как себя вести и как следует держаться, чтобы не нарушить наших, неведомых им правил. И мне выпало быть чем-то вроде неформального лидера во время этой грустной, но красивой церемонии.
Я далеко не специалист в таких делах, но вроде бы справился: все прошло гладко. Через пару дней я получил подробное благодарственное письмо, написанное от руки лично директором-распорядителем Всемирной службы Би-би-си Марком Байфордом. Из чего я сделал вывод: такие вещи здесь обязательны.
А вот воспоминание, относящееся к тому периоду, когда «Файнэншл таймс» сотрудничала с «Известиями». Тоже, кстати, связанное с траурной темой. Скончался один из технических руководителей российской газеты. Англичане немедленно послали партнерам свои соболезнования. И удивились, когда не получили на них ответа. Один из директоров «ФТ» даже спросил меня потихоньку: не является ли это признаком охлаждения отношений? Уверен ли я, что «Известия» хотят продолжать сотрудничество? Вот такие далеко идущие выводы были почти уже сделаны из молчания российской стороны. Я, конечно, заверил директора, что это ровно ничего не значит, что это лишь проявление различий в культурах и традициях двух стран. В России редко отвечают на официальные соболезнования, разве что в каких-то исключительных случаях. Хотя, кстати, до революции, насколько мне известно, такая традиция существовала. (А в советское время отвечали всем скопом через газету.)
Благодарственное письмо есть, конечно, лишь дань вежливости, но все-таки нам с женой показалось, что гостям ресторан гуркхов на самом деле понравился. Все-таки разнообразие по сравнению со всеми этими фуа-гра, перепелками в трюфельном соусе, фазанами и всяким таким прочим. (Фазанов, кстати, они разводят в своем поместье в Суссексе).