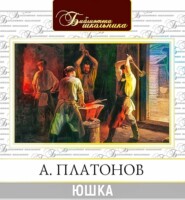По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну да, банда! А ты думал – целая армия? Армию на юге прочно угомонили.
– А артиллерия у них откуда? – не верил Пухову Зворычный.
– Чудак-человек! Давай мне мандат с печатью – я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.
Дома Пухов не ел и не пил – нечего было – и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.
Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты – сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых – дело ума, а не подлости, и пользовался, пока что, горячим завтраком в мастерских.
Потом ячейка решила, что Пухов – не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку – пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек – сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!
– Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! – серьезно сказал ему секретарь ячейки.
– Ничего не шпокнут! – ответил Пухов. – Я всю тактику жизни чувствую.
Зимовал он один – и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция – простота: перекрошил белых – делай разнообразные вещи.
А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства – и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта – выпишут в издержки революции, как путевой балласт.
Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.
Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его – не тяжестью, а унынием.
Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями – и были длинные мертвые простои.
Нашел Пухов одного друга себе – Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять одним. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества – человек бракованный.
– Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный, – говорил Пухов с сожалением.
– Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!
Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.
Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень – не то сделал он подводные лодки, не то нет?
Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все – про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись – мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы… зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.
У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал – отвык от чистописания.
«До чего ж письмо – тонкое дело!» – думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.
На конверте он обозначил:
«Адресату морскому матросу Шарикову. В Баку – на каспийскую флотилию».
Целую ночь отдыхал он от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.
– Брось в ящик! – сказал ему чиновник. – У тебя простое письмо!
– Из ящиков писем не вынимают – я никогда не видел! Отправь из рук! – попросил Пухов.
– Как так не вынимают? – обиделся чиновник. – Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!
Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.
– Не вынают, дьяволы, – ржавь кругом!
На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.
– Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? – строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах).
– Чего мне ходить – я и из книг все узнаю! – разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.
Через месяц пришел ответ от Шарикова.
«Ехай скорей, – писал Шариков, – на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан – что нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу – их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай – харчи будут».
Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осчастливленный другом.
Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.
IX
Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.
Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.
За Ростовом летали ласточки – любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!
Так он и доехал до самого конца.
– Явился? – поднял глаза от служебных бумаг Шариков.
– Вот он! – обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.
В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.
Каждый день приезжали буровые мастера, картальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.
Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.
Шариков теперь ведал нефтью – комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:
– Десять лет в Суруханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!
– А где ты был в революционное время? – допрашивал Шариков.
– Как где? Здесь делать нечего было!..
– А артиллерия у них откуда? – не верил Пухову Зворычный.
– Чудак-человек! Давай мне мандат с печатью – я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.
Дома Пухов не ел и не пил – нечего было – и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.
Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты – сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых – дело ума, а не подлости, и пользовался, пока что, горячим завтраком в мастерских.
Потом ячейка решила, что Пухов – не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку – пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек – сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!
– Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! – серьезно сказал ему секретарь ячейки.
– Ничего не шпокнут! – ответил Пухов. – Я всю тактику жизни чувствую.
Зимовал он один – и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция – простота: перекрошил белых – делай разнообразные вещи.
А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства – и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта – выпишут в издержки революции, как путевой балласт.
Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.
Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его – не тяжестью, а унынием.
Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями – и были длинные мертвые простои.
Нашел Пухов одного друга себе – Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять одним. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества – человек бракованный.
– Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный, – говорил Пухов с сожалением.
– Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!
Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.
Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень – не то сделал он подводные лодки, не то нет?
Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все – про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись – мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы… зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.
У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал – отвык от чистописания.
«До чего ж письмо – тонкое дело!» – думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.
На конверте он обозначил:
«Адресату морскому матросу Шарикову. В Баку – на каспийскую флотилию».
Целую ночь отдыхал он от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.
– Брось в ящик! – сказал ему чиновник. – У тебя простое письмо!
– Из ящиков писем не вынимают – я никогда не видел! Отправь из рук! – попросил Пухов.
– Как так не вынимают? – обиделся чиновник. – Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!
Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.
– Не вынают, дьяволы, – ржавь кругом!
На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.
– Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? – строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах).
– Чего мне ходить – я и из книг все узнаю! – разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.
Через месяц пришел ответ от Шарикова.
«Ехай скорей, – писал Шариков, – на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан – что нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу – их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай – харчи будут».
Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осчастливленный другом.
Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.
IX
Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.
Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.
За Ростовом летали ласточки – любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!
Так он и доехал до самого конца.
– Явился? – поднял глаза от служебных бумаг Шариков.
– Вот он! – обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.
В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.
Каждый день приезжали буровые мастера, картальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.
Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.
Шариков теперь ведал нефтью – комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:
– Десять лет в Суруханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!
– А где ты был в революционное время? – допрашивал Шариков.
– Как где? Здесь делать нечего было!..