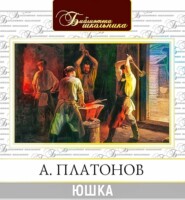По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.
– Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!
Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал – полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.
– Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.
Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.
Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком – защищать свой ненужный труд.
– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Вощев?
– О плане жизни.
– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.
– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.
– Ну и что ж ты бы мог сделать?
– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.
– Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.
Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время: но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.
– Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею!
– Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?
– Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении.
Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега – там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.
Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.
Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, – наблюдал родителей Вощев, – сущности они не чувствуют».
– Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Вощев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.
Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.
– Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка – вам лучше будет.
– А тебе чего тут надо? – со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. – Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили…
Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.
– Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?
– Близко, – ответил надзиратель, – если не будешь стоять, то дорога доведет.
– А вы чтите своего ребенка, – сказал Вощев, – когда вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне – все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Вощев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».
– Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.
Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:
– Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.
– Миш, лучше брось работать – насыпь: убытков наделаю!
Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.
– Я ж вчера тебе целый рубль дал, – сказал кузнец. – Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!
– Жги! – согласился инвалид. – Меня ребята на тележке доставят – крышу с кузни сорву!
Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:
– Грабь, саранча!
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.
Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.
Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.
Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях – Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.
– Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!
Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал – полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.
– Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.
Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.
Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком – защищать свой ненужный труд.
– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Вощев?
– О плане жизни.
– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.
– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.
– Ну и что ж ты бы мог сделать?
– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.
– Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.
Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время: но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.
– Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею!
– Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?
– Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении.
Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега – там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.
Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.
Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, – наблюдал родителей Вощев, – сущности они не чувствуют».
– Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Вощев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.
Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.
– Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка – вам лучше будет.
– А тебе чего тут надо? – со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. – Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили…
Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.
– Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?
– Близко, – ответил надзиратель, – если не будешь стоять, то дорога доведет.
– А вы чтите своего ребенка, – сказал Вощев, – когда вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне – все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Вощев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».
– Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.
Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:
– Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.
– Миш, лучше брось работать – насыпь: убытков наделаю!
Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.
– Я ж вчера тебе целый рубль дал, – сказал кузнец. – Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!
– Жги! – согласился инвалид. – Меня ребята на тележке доставят – крышу с кузни сорву!
Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:
– Грабь, саранча!
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.
Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.
Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.
Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях – Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: