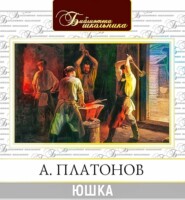По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.
– Что ты, товарищ! Я – красный партизан, здоровье на воздухе нажил!
Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.
– Ну, на тебе талон – на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.
Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут из готового грунта.
– Где насос, где черпак – вот и все дело! – рассказывал он Шарикову. – А ты тут целую подоплеку придумал!
– А как же иначе, чудак? Промысел – это, брат, надлежащее мероприятие, – ответил Шариков не своей речью.
«И этот, должно, на курсах обтесался, – подумал Пухов. – Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».
Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель – перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина – умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.
– Вари так и дальше! – сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.
Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло – от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями – и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.
– Я – человек облегченного типа! – объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.
А такие были: когда социальная идеология была неразвита и рабочий человек угощал себя выдумкой.
Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.
– Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры – баба приехала, оборвалась в деревне!
– На, черт! Если спекульнешь – на волю пущу! Пролетариат – честный предмет. – И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков – это интеллигентный человек!
Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.
Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? – Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? – Наши, мы их сделали. Что такое природа? – Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.
Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:
– Пухов, хочешь коммунистом сделаться?
– А что такое коммунист?
– Сволочь ты! Коммунист – это умный, научный человек, а буржуй – исторический дурак!
– Тогда не хочу.
– Почему не хочешь?
– Я – природный дурак! – объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.
– Вот гад! – засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.
Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.
Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.
Весь свет переживал утро, каждый человек знал про это происшествие, кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.
Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснилось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция – как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.
Во второй раз – после молодости – Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.
Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза, – нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.
Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.
Пухов сам не знал – не то он таял, не то рождался.
Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.
В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.
Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину – до сокровенного пульса.
– Хорошее утро! – сказал он машинисту.
Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:
– Революционное вполне!
1928
Котлован
В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.
Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре – оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.
– Эй, пищевой! – раздалось в уже смолкшем заведении. – Дай нам пару кружечек – в полость налить!
Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.
Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.
– Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!
Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.
– Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.
– Что ты, товарищ! Я – красный партизан, здоровье на воздухе нажил!
Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.
– Ну, на тебе талон – на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.
Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут из готового грунта.
– Где насос, где черпак – вот и все дело! – рассказывал он Шарикову. – А ты тут целую подоплеку придумал!
– А как же иначе, чудак? Промысел – это, брат, надлежащее мероприятие, – ответил Шариков не своей речью.
«И этот, должно, на курсах обтесался, – подумал Пухов. – Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».
Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель – перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина – умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.
– Вари так и дальше! – сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.
Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло – от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями – и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.
– Я – человек облегченного типа! – объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.
А такие были: когда социальная идеология была неразвита и рабочий человек угощал себя выдумкой.
Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.
– Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры – баба приехала, оборвалась в деревне!
– На, черт! Если спекульнешь – на волю пущу! Пролетариат – честный предмет. – И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков – это интеллигентный человек!
Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.
Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? – Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? – Наши, мы их сделали. Что такое природа? – Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.
Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:
– Пухов, хочешь коммунистом сделаться?
– А что такое коммунист?
– Сволочь ты! Коммунист – это умный, научный человек, а буржуй – исторический дурак!
– Тогда не хочу.
– Почему не хочешь?
– Я – природный дурак! – объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.
– Вот гад! – засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.
Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.
Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.
Весь свет переживал утро, каждый человек знал про это происшествие, кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.
Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснилось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция – как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.
Во второй раз – после молодости – Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.
Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза, – нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.
Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.
Пухов сам не знал – не то он таял, не то рождался.
Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.
В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.
Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину – до сокровенного пульса.
– Хорошее утро! – сказал он машинисту.
Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:
– Революционное вполне!
1928
Котлован
В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.
Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре – оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.
– Эй, пищевой! – раздалось в уже смолкшем заведении. – Дай нам пару кружечек – в полость налить!
Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.
Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.
– Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!
Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.
– Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.