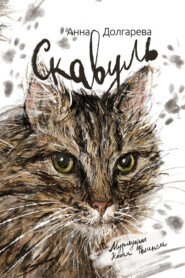По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Девять человек нас было в подразделении. Под Желобком бой продолжался, противник пытался обойти с фланга. Было принято решение принять встречный бой. Мы начали оттягивать противника. Из вооружения у нас было только стрелковое оружие. На удивление, противник сдал назад. А потом начались два часа ада. По нам полетело всё, что они имели. Было принято решение подвинуться немного назад. При этом передо мной погиб боец разведвзвода, позывной Зона.
Буквально в пятидесяти сантиметрах от него разорвался снаряд: предположительно – Д-30. Я ему перед этим сказал, что надо оттягиваться, потому что квадрат накрыли полностью, тут живого места не осталось. Он кивнул головой, и в этот момент…
Первое впечатление было, что ему хана, ноги землей засыпало полностью, говорю же, взрыв в пятидесяти сантиметрах. Я думал, что нижней части уже нет, но откопали – вроде нормально. Признаки жизни подавал. Вытаскивали его, наверное, минут сорок или час. Не смогли… Метров сто до больницы оставалось, когда он перестал подавать признаки жизни… Ну, а чего здесь такого? Война.
Фокс все это время говорил без всякой героики. «А ты, – спросил, – ожидала, что у нас тут ура, победа, бравурные марши?» Я не ожидала. Я уже больше двух лет находилась на Донбассе.
Утром Серега «ВДВ», командир отделения, стоял среди своих людей – и видно было, что он гордится ими, а они гордятся им. Про бой под Желобком он мне не столько рассказывал, сколько докладывал.
– Шестого числа они попытались сделать разведку боем. В 4:25 утра начался обстрел из БМП-1. После окончания обстрела начала работать БМП-2, закончила она – включилась зенитка. Затем ребята заметили продвижение группы противника в нашу сторону. Дали отпор, завязался стрелковый бой. Но он очень быстро закончился, так как они не ожидали, что мы окажем такое сопротивление. В итоге они отступили. На следующий день они решили усилить напор, в тот день было целых пять провальных атак. Началось все около пяти утра. Мы находились в этот момент на Желобке. Сидели на блокпосте.
– Никто не ожидал, что начнётся атака, – перебила его невысокая девушка. Это была его жена, её звали Марина, и она оказалась старшим стрелком в «Призраке». – Мы сидели спокойно на улице и пили чай. Они начали выползать и обстреливать наших бойцов.
– Начала работать «копейка» (БМП-1), 120-е миномёты, туда же подвязалась артиллерия, 152-е, это, скорее всего, была саушка, – продолжил Сергей. – Думали повредить нашу живую силу осколками. Но не получилось. Они не знали, что у нас хорошие укрепления – фортификационные работы проводились очень долго, и наши бойцы отлично закрепились. В итоге украинская армия потерпела полное фиаско. Ещё была пехотная атака под прикрытием артиллерии противника. Когда она началась, я находился на наблюдательном пункте. Я помогал связистам принимать радиограммы. Когда начался стрелковый бой, я выдвинулся с группой своих людей защищать фланг от противника. Украинские бойцы были за завесой зелёнки. Зелёнка густая, если бы была осень или зима, их было бы хорошо видно, а так… Они особо не высовывались, работали грамотно… Но наш профессионализм непреодолим.
Он ехидно улыбнулся, совсем как двенадцатилетний мальчишка, отлично сдавший урок или победивший в спортивном соревновании у силачей-хулиганов из шестого «В». Ему исполнился тридцать один год, он воевал уже три года и до этого отслужил в украинской армии – по призыву, потом по контракту.
– Не боится только дурак, – уже серьёзно продолжил он. – Люди, прошедшие войну, а некоторые не одну, а две-три; у некоторых за плечами вся жизнь на войне, да и я, как бывший военный украинской армии, скажу: страшно. Всегда страшно. Страшно даже не за себя, а за личный состав, за своё подразделение, за своё командование.
Это точно. Командование в «Призраке» не просто бегало по передовой наравне с рядовыми бойцами, а ещё и погоны при этом не снимало, так и светило звездами.
– За женщин наших страшно, которые всегда находятся с нами, поддерживают нас в любых ситуациях, – добавил Сергей.
Женщин в его отделении было две. Его маленькая хрупкая жена – старший стрелок, и шикарная рыжеволосая Элла, манерой разговора напоминающая Фаину Раневскую. Элла в этом бою выжила чудом: покинула укрытие за минуту до того, как в него попала ПТУР.
Потом я пошла гулять по посёлку Донецкий. Разговорилась с мирными жителями.
– Бьют с Тошковки по нам, – сказал средних лет местный, представившийся Виталием. – Мирные жители мы, тут живём, а они… Мы недавно сидели с соседом на лавочке, в двадцати метрах от нас взорвалось, гаражи сгорели. Тушили, бегали с ведрами, над нами опять взрывалось. Сегодня опять в огород прилетело…
Донецкий уже давно находился на линии фронта. Но тут были люди. Были дети.
– Мне шесть лет, – сказала мне маленькая застенчивая Алина. – Я тут живу – в Донецком. Недавно бомбили очень сильно, нас вывозили в Кировск. Три или четыре дня мы там были. Страшно было очень. Нас часто бомбят. Когда бомбят, мама мне говорит, чтобы я возле двери сидела. Я сижу. А тогда очень сильно бомбили, и нас увезли. С родителями. А кошка в окно выпрыгнула. У нас есть кошка Ночка, она чёрная. Я её очень люблю. Мы вот тут живём, в пятиэтажке, рядом, и когда нас увозили, Ночка в окно выпрыгнула и гуляла. Потом мы вернулись, и она тоже вернулась. Сейчас по ночам снова гремит. Страшно.
Зоя
Я обратила на неё внимание, потому что у неё были выбритые виски. Словно рок-звезда среди солдат, подумала я, невозможно красивая. Попросила сфотографировать. Она сняла зелёную камуфляжную кепку и улыбнулась, и стала ещё лучше, только не рок-звезда, а русская такая девчонка, с нежными щеками, глазами (драгоценными камушками) и ртом, срывающимся в улыбку.
– Ты откуда? – спросила я.
– Из Иркутской области, – ответила она.
Я удивилась: у неё было мягкое фрикативное «г», как у местных.
– А я привыкла, – засмеялась она. – Уже и шокаю, и гэкаю, будто тут и родилась.
Её звали Лида, позывной почему-то прилип – Зоя, непонятно почему, прилип и прилип. Она приехала в начале 2015 года, ей тогда было двадцать пять лет. До того работала медсестрой. Своего дома не было, родители умерли. Переезжала, искала, где лучше. Возила с собой дочку; с мужем развелись, остались друзьями. Когда приехала, дочку оставила бабушке и дедушке, родителям мужа.
Добрый, командир батальона, потом говорил:
– Мы с ней два месяца, наверное, переписывались. Я сначала всерьёз не воспринял. Думал: молодая девчонка, дочка есть, мужа нет, – наверное, мужика искать едет. Но она меня донимала, и я сдался. И она такая молодец оказалась. Словно тут и было её место.
– Когда сюда приехала, ни секунды об этом не пожалела, – продолжала Лида. – Тут дом. Тут всё по-настоящему. Привязало меня к этому месту крепко.
Она с детства мечтала пойти в армию, жизнь сложилась иначе. И она стала санинструктором в «Призраке». Потом было много всего – например, командовала снайперским отделением. Сейчас исполняет обязанности старшины миномётной батареи.
К нам подбежал спаниель. Он размахивал смешными мягкими ушами и тыкался в Лидину ногу. Лида погладила его.
– Купила за тысячу рублей, – похвасталась Лида.
– Бывает тут вообще страшно, или ты уже привыкла? – невпопад спросила я, глядя на эту умилительную, почти мирную картину: красивая девушка тискает породистую собаку.
– Да, конечно, – удивлённо ответила она, – под каждым обстрелом страшно. Иногда такие бывают, что голову поднять не можешь. Сидишь, куришь и думает: это уже наступление и по нам сейчас танками пройдутся или ещё нет?
Она помнила своего первого раненого. Это было 3 марта 2015 года. Он вёл «Урал», подорвался на фугасе. Его оттащили от машины, она бежала к нему в грязи по колено.
– Он лежит на одеяле, ноги все перебиты, вывернуты. Жгуты уже были наложены. Я его обколола, закрыла все раны. Отвезли в госпиталь на таком же «Урале». Страшно было очень. Страшно что-то не то сделать.
Потом она узнавала: остался жив.
– Своего первого «двухсотого» я тоже помню. Подрыв на растяжке. Вскрытие показало, что его нельзя было спасти, он кровью истёк. Помню: тогда уже не было трясучки в руках.
Здесь, говорила она, всё по-настоящему. Проблемы, которые казались невероятно важными в прежней, довоенной жизни, сейчас отошли на второй план. Что там казалось таким уж ключевым? Деньги? Накраситься?
– Я раньше всегда в платьях ходила, на каблуках, – призналась Лида. – Иногда и сейчас хочется красиво одеться. Маникюр делаю, вот месяц назад шеллак сняла.
Я смотрю на её коротко остриженные волосы и ногти.
– Прическа у тебя тоже очень стильная, – говорю.
– Это чтобы голову мыть быстро, – смеётся она.
Лида мало говорила о себе, о своём боевом опыте, это я уже потом – не от неё – узнала, как она командовала снайперами на Желобке, где расстояние до украинских позиций ещё тогда было метров триста. А она объясняла, как привыкла к войне.
– Самое тяжёлое – это моральная усталость. Когда хочется не видеть никого, а нет такой возможности. Когда одни и те же лица вокруг, одни и те же обязанности, одни и те же «трёхсотые», «двухсотые». Но ничего. Побесишься какое-то время, потом проходит.
Ещё дома, до войны, она разговаривала с одним знакомым, воевавшим в Чечне. Он говорил: после 2–3 месяцев на войне надо будет выехать домой, отдохнуть.
– Иначе война затянет, она затягивает. Я не понимала, как это – война затягивает. И вот как раз через пару месяцев на войне я поехала на день рождения к дочке – и уже на следующий день после дня рождения сумка у меня была собрана обратно. Я была как неприкаянная. В этом мире мне чего-то не хватало.
Потом уже, в другой раз, выезжала на полгода, операцию делали. Вернулась. В первый же день услышала гул обстрела и поняла: этого-то мне и не хватало.
Это всё говорилось, когда где-то в стороне тоже гудят мины, но ничего, ничего, она привыкла. И скоро лето.
Отцветали уже абрикосы.
Цупка
Моего собеседника звали казак Эдуард, по должности старшина. Ничего необычного, просто казак Эдуард. Фамилия у него тоже была выдающаяся – Цупка. И внешность у него была подходящая: с одной стороны – какая-то несуразная папаха и грязная тельняшка, с другой – он был красив какой-то иконописной, по-настоящему русской красотой.
Буквально в пятидесяти сантиметрах от него разорвался снаряд: предположительно – Д-30. Я ему перед этим сказал, что надо оттягиваться, потому что квадрат накрыли полностью, тут живого места не осталось. Он кивнул головой, и в этот момент…
Первое впечатление было, что ему хана, ноги землей засыпало полностью, говорю же, взрыв в пятидесяти сантиметрах. Я думал, что нижней части уже нет, но откопали – вроде нормально. Признаки жизни подавал. Вытаскивали его, наверное, минут сорок или час. Не смогли… Метров сто до больницы оставалось, когда он перестал подавать признаки жизни… Ну, а чего здесь такого? Война.
Фокс все это время говорил без всякой героики. «А ты, – спросил, – ожидала, что у нас тут ура, победа, бравурные марши?» Я не ожидала. Я уже больше двух лет находилась на Донбассе.
Утром Серега «ВДВ», командир отделения, стоял среди своих людей – и видно было, что он гордится ими, а они гордятся им. Про бой под Желобком он мне не столько рассказывал, сколько докладывал.
– Шестого числа они попытались сделать разведку боем. В 4:25 утра начался обстрел из БМП-1. После окончания обстрела начала работать БМП-2, закончила она – включилась зенитка. Затем ребята заметили продвижение группы противника в нашу сторону. Дали отпор, завязался стрелковый бой. Но он очень быстро закончился, так как они не ожидали, что мы окажем такое сопротивление. В итоге они отступили. На следующий день они решили усилить напор, в тот день было целых пять провальных атак. Началось все около пяти утра. Мы находились в этот момент на Желобке. Сидели на блокпосте.
– Никто не ожидал, что начнётся атака, – перебила его невысокая девушка. Это была его жена, её звали Марина, и она оказалась старшим стрелком в «Призраке». – Мы сидели спокойно на улице и пили чай. Они начали выползать и обстреливать наших бойцов.
– Начала работать «копейка» (БМП-1), 120-е миномёты, туда же подвязалась артиллерия, 152-е, это, скорее всего, была саушка, – продолжил Сергей. – Думали повредить нашу живую силу осколками. Но не получилось. Они не знали, что у нас хорошие укрепления – фортификационные работы проводились очень долго, и наши бойцы отлично закрепились. В итоге украинская армия потерпела полное фиаско. Ещё была пехотная атака под прикрытием артиллерии противника. Когда она началась, я находился на наблюдательном пункте. Я помогал связистам принимать радиограммы. Когда начался стрелковый бой, я выдвинулся с группой своих людей защищать фланг от противника. Украинские бойцы были за завесой зелёнки. Зелёнка густая, если бы была осень или зима, их было бы хорошо видно, а так… Они особо не высовывались, работали грамотно… Но наш профессионализм непреодолим.
Он ехидно улыбнулся, совсем как двенадцатилетний мальчишка, отлично сдавший урок или победивший в спортивном соревновании у силачей-хулиганов из шестого «В». Ему исполнился тридцать один год, он воевал уже три года и до этого отслужил в украинской армии – по призыву, потом по контракту.
– Не боится только дурак, – уже серьёзно продолжил он. – Люди, прошедшие войну, а некоторые не одну, а две-три; у некоторых за плечами вся жизнь на войне, да и я, как бывший военный украинской армии, скажу: страшно. Всегда страшно. Страшно даже не за себя, а за личный состав, за своё подразделение, за своё командование.
Это точно. Командование в «Призраке» не просто бегало по передовой наравне с рядовыми бойцами, а ещё и погоны при этом не снимало, так и светило звездами.
– За женщин наших страшно, которые всегда находятся с нами, поддерживают нас в любых ситуациях, – добавил Сергей.
Женщин в его отделении было две. Его маленькая хрупкая жена – старший стрелок, и шикарная рыжеволосая Элла, манерой разговора напоминающая Фаину Раневскую. Элла в этом бою выжила чудом: покинула укрытие за минуту до того, как в него попала ПТУР.
Потом я пошла гулять по посёлку Донецкий. Разговорилась с мирными жителями.
– Бьют с Тошковки по нам, – сказал средних лет местный, представившийся Виталием. – Мирные жители мы, тут живём, а они… Мы недавно сидели с соседом на лавочке, в двадцати метрах от нас взорвалось, гаражи сгорели. Тушили, бегали с ведрами, над нами опять взрывалось. Сегодня опять в огород прилетело…
Донецкий уже давно находился на линии фронта. Но тут были люди. Были дети.
– Мне шесть лет, – сказала мне маленькая застенчивая Алина. – Я тут живу – в Донецком. Недавно бомбили очень сильно, нас вывозили в Кировск. Три или четыре дня мы там были. Страшно было очень. Нас часто бомбят. Когда бомбят, мама мне говорит, чтобы я возле двери сидела. Я сижу. А тогда очень сильно бомбили, и нас увезли. С родителями. А кошка в окно выпрыгнула. У нас есть кошка Ночка, она чёрная. Я её очень люблю. Мы вот тут живём, в пятиэтажке, рядом, и когда нас увозили, Ночка в окно выпрыгнула и гуляла. Потом мы вернулись, и она тоже вернулась. Сейчас по ночам снова гремит. Страшно.
Зоя
Я обратила на неё внимание, потому что у неё были выбритые виски. Словно рок-звезда среди солдат, подумала я, невозможно красивая. Попросила сфотографировать. Она сняла зелёную камуфляжную кепку и улыбнулась, и стала ещё лучше, только не рок-звезда, а русская такая девчонка, с нежными щеками, глазами (драгоценными камушками) и ртом, срывающимся в улыбку.
– Ты откуда? – спросила я.
– Из Иркутской области, – ответила она.
Я удивилась: у неё было мягкое фрикативное «г», как у местных.
– А я привыкла, – засмеялась она. – Уже и шокаю, и гэкаю, будто тут и родилась.
Её звали Лида, позывной почему-то прилип – Зоя, непонятно почему, прилип и прилип. Она приехала в начале 2015 года, ей тогда было двадцать пять лет. До того работала медсестрой. Своего дома не было, родители умерли. Переезжала, искала, где лучше. Возила с собой дочку; с мужем развелись, остались друзьями. Когда приехала, дочку оставила бабушке и дедушке, родителям мужа.
Добрый, командир батальона, потом говорил:
– Мы с ней два месяца, наверное, переписывались. Я сначала всерьёз не воспринял. Думал: молодая девчонка, дочка есть, мужа нет, – наверное, мужика искать едет. Но она меня донимала, и я сдался. И она такая молодец оказалась. Словно тут и было её место.
– Когда сюда приехала, ни секунды об этом не пожалела, – продолжала Лида. – Тут дом. Тут всё по-настоящему. Привязало меня к этому месту крепко.
Она с детства мечтала пойти в армию, жизнь сложилась иначе. И она стала санинструктором в «Призраке». Потом было много всего – например, командовала снайперским отделением. Сейчас исполняет обязанности старшины миномётной батареи.
К нам подбежал спаниель. Он размахивал смешными мягкими ушами и тыкался в Лидину ногу. Лида погладила его.
– Купила за тысячу рублей, – похвасталась Лида.
– Бывает тут вообще страшно, или ты уже привыкла? – невпопад спросила я, глядя на эту умилительную, почти мирную картину: красивая девушка тискает породистую собаку.
– Да, конечно, – удивлённо ответила она, – под каждым обстрелом страшно. Иногда такие бывают, что голову поднять не можешь. Сидишь, куришь и думает: это уже наступление и по нам сейчас танками пройдутся или ещё нет?
Она помнила своего первого раненого. Это было 3 марта 2015 года. Он вёл «Урал», подорвался на фугасе. Его оттащили от машины, она бежала к нему в грязи по колено.
– Он лежит на одеяле, ноги все перебиты, вывернуты. Жгуты уже были наложены. Я его обколола, закрыла все раны. Отвезли в госпиталь на таком же «Урале». Страшно было очень. Страшно что-то не то сделать.
Потом она узнавала: остался жив.
– Своего первого «двухсотого» я тоже помню. Подрыв на растяжке. Вскрытие показало, что его нельзя было спасти, он кровью истёк. Помню: тогда уже не было трясучки в руках.
Здесь, говорила она, всё по-настоящему. Проблемы, которые казались невероятно важными в прежней, довоенной жизни, сейчас отошли на второй план. Что там казалось таким уж ключевым? Деньги? Накраситься?
– Я раньше всегда в платьях ходила, на каблуках, – призналась Лида. – Иногда и сейчас хочется красиво одеться. Маникюр делаю, вот месяц назад шеллак сняла.
Я смотрю на её коротко остриженные волосы и ногти.
– Прическа у тебя тоже очень стильная, – говорю.
– Это чтобы голову мыть быстро, – смеётся она.
Лида мало говорила о себе, о своём боевом опыте, это я уже потом – не от неё – узнала, как она командовала снайперами на Желобке, где расстояние до украинских позиций ещё тогда было метров триста. А она объясняла, как привыкла к войне.
– Самое тяжёлое – это моральная усталость. Когда хочется не видеть никого, а нет такой возможности. Когда одни и те же лица вокруг, одни и те же обязанности, одни и те же «трёхсотые», «двухсотые». Но ничего. Побесишься какое-то время, потом проходит.
Ещё дома, до войны, она разговаривала с одним знакомым, воевавшим в Чечне. Он говорил: после 2–3 месяцев на войне надо будет выехать домой, отдохнуть.
– Иначе война затянет, она затягивает. Я не понимала, как это – война затягивает. И вот как раз через пару месяцев на войне я поехала на день рождения к дочке – и уже на следующий день после дня рождения сумка у меня была собрана обратно. Я была как неприкаянная. В этом мире мне чего-то не хватало.
Потом уже, в другой раз, выезжала на полгода, операцию делали. Вернулась. В первый же день услышала гул обстрела и поняла: этого-то мне и не хватало.
Это всё говорилось, когда где-то в стороне тоже гудят мины, но ничего, ничего, она привыкла. И скоро лето.
Отцветали уже абрикосы.
Цупка
Моего собеседника звали казак Эдуард, по должности старшина. Ничего необычного, просто казак Эдуард. Фамилия у него тоже была выдающаяся – Цупка. И внешность у него была подходящая: с одной стороны – какая-то несуразная папаха и грязная тельняшка, с другой – он был красив какой-то иконописной, по-настоящему русской красотой.