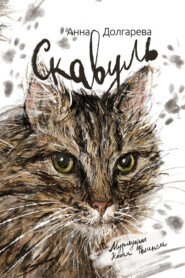По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Роман размотал тряпку на воротах, мы вошли во двор. Явно прилетало сюда не в первый раз: часть окон была выбита и кое-как заделана. Яма от мины виднелась прямо под стеной дома. Двор был чистый, в нём цвели розы. В глубине сидела большая собака. Ждала…
…У Виктора был сын. Артём. Виктора в 2014 году в ополчение не взяли, ну кто его возьмёт, на костылях. А сын Артём пошёл. У него к тому времени уже свои дети были, двое. Два года воевал. А потом, в 2016 году, Виктор его хоронил. Артём погиб под Саханкой. Семья его, жена и дети, там, на юге, и остались до сих пор…
Виктор жил с матерью и сестрой Любой. Любина дочка училась в университете, живёт поближе – в общежитии. А сама Люба – тут. Накануне ей повезло: по работе сорвалась в срочную командировку в Торез. Благодаря этому и осталась жива…
– Вы не задерживайтесь. Слышите, уже шумно становится! – занервничал офицер.
Разрывы мин действительно становились все громче и громче. Но Роман спокойно стоял рядом с нами. Показал: вот здесь Виктор лежал. А вот тут до сих пор его костыли.
Они всю войну прожили здесь. Все три года. А в эту ночь не успели дойти до спасительного убежища. Да и не было практически шансов: Виктор – на костылях, Лидия Владимировна – с палочкой.
Где-то там ему уже не нужны костыли. А восьмидесятилетней старушке, заставшей ещё Великую Отечественную, не нужна палочка.
Где-то там они вместе, и погибший за Донбасс Артём, сын Виктора, тоже с ними вместе.
Разрывы звучали все громче.
Созрела черешня.
Интерлюдия
Из депрессии меня вытащил итальянец.
То есть я к тому времени более-менее освоилась в Донецке, работала на свои 12 тысяч рублей, даже пошла в фотошколу, но тоска по Журавлёву меня не отпускала. И тут я встретила одного из самых жизнеутверждающих людей, которых подбрасывала мне жизнь.
Я приехала к Доброму в «Призрак» делать репортаж об иностранных добровольцах. Их было четверо: испанец Лаки, бразилец Эди (потом, уже на СВО, он погиб), Карлос из Чили и этот итальянец Немо. Они воевали в «Интербригаде» – специальном подразделении «Призрака» для иностранных добровольцев.
Карлос в мирной жизни был журналистом, приехать на Донбасс решил после событий в Одессе. Его поддержала жена, в своё время участвовавшая в герилье.
Лаки приехал в самом начале 2014 года, успел вернуться в Испанию, немного посидеть там за терроризм, но был выпущен, когда поднялся шум в СМИ. Это испанца не остановило, и он снова приехал на Донбасс. Он антифашист, и когда увидел ролики с нацистскими маршами в Киеве, решил сражаться с этим.
С Эди мы не поняли друг друга. Вообще говоря, мой английский был чудовищным. Но заговорив с Немо, я как-то сразу вспомнила даже то, чего не знала, и записала с ним интервью.
Его звали Альберто, он был экономистом и известным левым активистом, а ещё успел выпустить несколько книг. Собственно говоря, это оказалась не первая его война: до этого он воевал в Югославии на стороне сербов.
– Мы просто отступали шаг за шагом к Белграду, а потом всё закончилось, – ёмко описал он эти события.
Ему тогда было двадцать лет, и он попросту приехал на машине из Италии в Сербию.
Он был воинствующим коммунистом, но считал, что коммунистические организации слишком пассивны. Впрочем, возможность мировой революции не отметал.
Как и многие, Немо занимался в основном рытьем окопов – такая странная тогда была война. Отношения с товарищами вне «Интербригады» не складывались. Его искренне считали чудаком, который бросил прекрасную жизнь и приехал в холод и грязь, чтобы менять мир. К тому же, мешал языковой барьер. По-русски он знал всего слов пятьдесят. Вообще все эти иностранцы русского практически не знали, вращаясь преимущественно в своей среде. От нормальной жизни он отказался: не ходил в кафе и рестораны, не брал отпуск. Немо считал, что эти вещи отвлекают от войны и политики, которой он продолжал заниматься, и что после них становится только грустнее.
И тем не менее Немо заражал своей уверенностью в победе. Мы сидели в располаге «Призрака», я судорожно вспоминала английский, и мне хотелось верить, что действительно, наступит перелом и скоро что-то изменит ситуацию. Правда, Немо это видел через путь 1917 года в России, но это и понятно было с его политическими взглядами.
Вскоре после выхода интервью я познакомилась с ещё одним итальянцем, на этот раз правым активистом. Его звали Андреа Палмери, он был футбольным фанатом – и он оказался полной противоположностью коммуниста Немо, ненавидевшего футбол. Андреа по-русски как раз говорил неплохо, успел повоевать в 2014-м, затем осел в Луганске. Он открывал итальянский центр, и на открытие его медийщики вытащили Немо, узнав, что в ЛНР есть ещё один иностранец.
Чуть не дошло до драки.
Мы виделись ещё несколько раз. На открытии того самого итальянского центра, с которого Немо довольно быстро ретировался и отправился гулять со мной по морозному Луганску, затем я ещё раз приезжала в «Призрак». Как ни удивительно, мы вели долгие беседы в «Телеграме». В реальности общение выходило более скомканным, а при переписке есть опция гугл-перевода речи собеседника. Он даже поделился со мной любимым стихотворением. Это было что-то из д’Аннунцио в переводе Ахматовой, который он специально нашёл.
Правда, в начале 2017 года началось обострение в Донецке, и я пропала со связи. Мне до сих пор жаль, что я так оборвала это общение: оно заставляло меня напрягать мозг, но было утешительным.
Насколько я знаю от общих знакомых, Немо через какое-то время вернулся в Рим, чтобы возобновить политическую борьбу подальше от морозного Донбасса. Вряд ли что-то заставило его вернуться. Когда началась СВО, уже не было командира Доброго, такого же последовательного коммуниста, как и Немо, не было «Интербригады», состоящей из иностранцев. Скорее всего, он так и пишет книги.
Тарпан
Я, когда к ним ехала, видела террикон. Красно-коричневый, весь изрезанный ветрами, – такой он был. И лицо у этого немолодого человека с очень светлыми глазами было – как террикон: загорелое, с рельефными, глубокими морщинами, делающими из него старика. Хотя ему вроде бы немного было – лет шестьдесят, что ли. Может, меньше.
Вокруг были цветущие абрикосы. Маленькие домики, такие хрупкие, так легко ломающиеся, если в них попадает снаряд: одни целые, заросшие цветами и зеленью, другие – схлопнувшиеся. И везде следы от осколков.
И этот человек-террикон. Смотрел он на меня насмешливо, мол, видали мы вас, столичных журналистов, которые приехали поснимать на передовую, пощёлкаете да уедете, ничего не поняв. И мне, в общем, нечего было ему возразить.
Его звали Тарпан.
– Почему Тарпан? – спросила я.
– Это конь такой дикий. Необузданный, – усмехнулся он. – Вот и я, как тот конь, бываю.
Он представился сотрудником правоохранительных органов, попросил не уточнять детали, дальше у меня сложились некоторые предположения о специфике его работы; но что ж – не хочет человек озвучивать их, значит, не хочет. Приехал в 2015 году из Москвы, служит в «Призраке» уже четыре года.
Быт вокруг солдатский – печка, на печке гречка, чай, дешёвые сигареты вминаются в пепельницу крепкими пальцами, окна крест-накрест заклеены скотчем, рядом развалилась овчарка.
– Бывает ли жалко врагов? – спрашиваю я, не зная, как подступиться к этому человеку с насмешливым светлым взглядом.
– Не думал, – пожимает плечами Тарпан. – Думать вредно человеку, который смотрит из окопа.
– А что тяжелее всего?
– Затишье. Затишье – это самое тяжёлое. Не могу понять, что дальше. Раньше, в 2015–2016 годах, было понятно. Сейчас это всё подзатянулось.
Несколько дней назад от него ушла – я так поняла, может, просто уехала – женщина. Москвичка. Она иногда приезжала к нему на несколько дней, готовила для солдат, жила – потом уезжала. Наверное, не выдержала неопределённости. А может, ещё приедет, снова будет здесь готовить, в маленьком домике, где стоит замазанная глиной печка.
– Что там о нас говорят в России? – спрашивает он.
– Вы так говорите – Россия, – отвечаю я. – При этом вы сам гражданин России, но для вас «мы» – это здесь. Да?
– Да! – внезапно кричит он.
Нагибается над столом, кричит, страшно кричит матом: Россия – это те, кто бросил его и его пацанов здесь, Россия – это те, кто поманил и обманул.
Лицо страшное, перекошенное, злое.
– А всё равно Россия – это мы, – устало добавляет он в конце этой горькой матерной тирады.
Я записываю в блокнот, так и не поняв, к чему он это сказал. Теперь я верю, что он бывает пугающим.
– Самое страшное, – говорит он, вбивая сигарету в пепельницу, – это приказ «не стрелять». Тяжёлый приказ.
…У Виктора был сын. Артём. Виктора в 2014 году в ополчение не взяли, ну кто его возьмёт, на костылях. А сын Артём пошёл. У него к тому времени уже свои дети были, двое. Два года воевал. А потом, в 2016 году, Виктор его хоронил. Артём погиб под Саханкой. Семья его, жена и дети, там, на юге, и остались до сих пор…
Виктор жил с матерью и сестрой Любой. Любина дочка училась в университете, живёт поближе – в общежитии. А сама Люба – тут. Накануне ей повезло: по работе сорвалась в срочную командировку в Торез. Благодаря этому и осталась жива…
– Вы не задерживайтесь. Слышите, уже шумно становится! – занервничал офицер.
Разрывы мин действительно становились все громче и громче. Но Роман спокойно стоял рядом с нами. Показал: вот здесь Виктор лежал. А вот тут до сих пор его костыли.
Они всю войну прожили здесь. Все три года. А в эту ночь не успели дойти до спасительного убежища. Да и не было практически шансов: Виктор – на костылях, Лидия Владимировна – с палочкой.
Где-то там ему уже не нужны костыли. А восьмидесятилетней старушке, заставшей ещё Великую Отечественную, не нужна палочка.
Где-то там они вместе, и погибший за Донбасс Артём, сын Виктора, тоже с ними вместе.
Разрывы звучали все громче.
Созрела черешня.
Интерлюдия
Из депрессии меня вытащил итальянец.
То есть я к тому времени более-менее освоилась в Донецке, работала на свои 12 тысяч рублей, даже пошла в фотошколу, но тоска по Журавлёву меня не отпускала. И тут я встретила одного из самых жизнеутверждающих людей, которых подбрасывала мне жизнь.
Я приехала к Доброму в «Призрак» делать репортаж об иностранных добровольцах. Их было четверо: испанец Лаки, бразилец Эди (потом, уже на СВО, он погиб), Карлос из Чили и этот итальянец Немо. Они воевали в «Интербригаде» – специальном подразделении «Призрака» для иностранных добровольцев.
Карлос в мирной жизни был журналистом, приехать на Донбасс решил после событий в Одессе. Его поддержала жена, в своё время участвовавшая в герилье.
Лаки приехал в самом начале 2014 года, успел вернуться в Испанию, немного посидеть там за терроризм, но был выпущен, когда поднялся шум в СМИ. Это испанца не остановило, и он снова приехал на Донбасс. Он антифашист, и когда увидел ролики с нацистскими маршами в Киеве, решил сражаться с этим.
С Эди мы не поняли друг друга. Вообще говоря, мой английский был чудовищным. Но заговорив с Немо, я как-то сразу вспомнила даже то, чего не знала, и записала с ним интервью.
Его звали Альберто, он был экономистом и известным левым активистом, а ещё успел выпустить несколько книг. Собственно говоря, это оказалась не первая его война: до этого он воевал в Югославии на стороне сербов.
– Мы просто отступали шаг за шагом к Белграду, а потом всё закончилось, – ёмко описал он эти события.
Ему тогда было двадцать лет, и он попросту приехал на машине из Италии в Сербию.
Он был воинствующим коммунистом, но считал, что коммунистические организации слишком пассивны. Впрочем, возможность мировой революции не отметал.
Как и многие, Немо занимался в основном рытьем окопов – такая странная тогда была война. Отношения с товарищами вне «Интербригады» не складывались. Его искренне считали чудаком, который бросил прекрасную жизнь и приехал в холод и грязь, чтобы менять мир. К тому же, мешал языковой барьер. По-русски он знал всего слов пятьдесят. Вообще все эти иностранцы русского практически не знали, вращаясь преимущественно в своей среде. От нормальной жизни он отказался: не ходил в кафе и рестораны, не брал отпуск. Немо считал, что эти вещи отвлекают от войны и политики, которой он продолжал заниматься, и что после них становится только грустнее.
И тем не менее Немо заражал своей уверенностью в победе. Мы сидели в располаге «Призрака», я судорожно вспоминала английский, и мне хотелось верить, что действительно, наступит перелом и скоро что-то изменит ситуацию. Правда, Немо это видел через путь 1917 года в России, но это и понятно было с его политическими взглядами.
Вскоре после выхода интервью я познакомилась с ещё одним итальянцем, на этот раз правым активистом. Его звали Андреа Палмери, он был футбольным фанатом – и он оказался полной противоположностью коммуниста Немо, ненавидевшего футбол. Андреа по-русски как раз говорил неплохо, успел повоевать в 2014-м, затем осел в Луганске. Он открывал итальянский центр, и на открытие его медийщики вытащили Немо, узнав, что в ЛНР есть ещё один иностранец.
Чуть не дошло до драки.
Мы виделись ещё несколько раз. На открытии того самого итальянского центра, с которого Немо довольно быстро ретировался и отправился гулять со мной по морозному Луганску, затем я ещё раз приезжала в «Призрак». Как ни удивительно, мы вели долгие беседы в «Телеграме». В реальности общение выходило более скомканным, а при переписке есть опция гугл-перевода речи собеседника. Он даже поделился со мной любимым стихотворением. Это было что-то из д’Аннунцио в переводе Ахматовой, который он специально нашёл.
Правда, в начале 2017 года началось обострение в Донецке, и я пропала со связи. Мне до сих пор жаль, что я так оборвала это общение: оно заставляло меня напрягать мозг, но было утешительным.
Насколько я знаю от общих знакомых, Немо через какое-то время вернулся в Рим, чтобы возобновить политическую борьбу подальше от морозного Донбасса. Вряд ли что-то заставило его вернуться. Когда началась СВО, уже не было командира Доброго, такого же последовательного коммуниста, как и Немо, не было «Интербригады», состоящей из иностранцев. Скорее всего, он так и пишет книги.
Тарпан
Я, когда к ним ехала, видела террикон. Красно-коричневый, весь изрезанный ветрами, – такой он был. И лицо у этого немолодого человека с очень светлыми глазами было – как террикон: загорелое, с рельефными, глубокими морщинами, делающими из него старика. Хотя ему вроде бы немного было – лет шестьдесят, что ли. Может, меньше.
Вокруг были цветущие абрикосы. Маленькие домики, такие хрупкие, так легко ломающиеся, если в них попадает снаряд: одни целые, заросшие цветами и зеленью, другие – схлопнувшиеся. И везде следы от осколков.
И этот человек-террикон. Смотрел он на меня насмешливо, мол, видали мы вас, столичных журналистов, которые приехали поснимать на передовую, пощёлкаете да уедете, ничего не поняв. И мне, в общем, нечего было ему возразить.
Его звали Тарпан.
– Почему Тарпан? – спросила я.
– Это конь такой дикий. Необузданный, – усмехнулся он. – Вот и я, как тот конь, бываю.
Он представился сотрудником правоохранительных органов, попросил не уточнять детали, дальше у меня сложились некоторые предположения о специфике его работы; но что ж – не хочет человек озвучивать их, значит, не хочет. Приехал в 2015 году из Москвы, служит в «Призраке» уже четыре года.
Быт вокруг солдатский – печка, на печке гречка, чай, дешёвые сигареты вминаются в пепельницу крепкими пальцами, окна крест-накрест заклеены скотчем, рядом развалилась овчарка.
– Бывает ли жалко врагов? – спрашиваю я, не зная, как подступиться к этому человеку с насмешливым светлым взглядом.
– Не думал, – пожимает плечами Тарпан. – Думать вредно человеку, который смотрит из окопа.
– А что тяжелее всего?
– Затишье. Затишье – это самое тяжёлое. Не могу понять, что дальше. Раньше, в 2015–2016 годах, было понятно. Сейчас это всё подзатянулось.
Несколько дней назад от него ушла – я так поняла, может, просто уехала – женщина. Москвичка. Она иногда приезжала к нему на несколько дней, готовила для солдат, жила – потом уезжала. Наверное, не выдержала неопределённости. А может, ещё приедет, снова будет здесь готовить, в маленьком домике, где стоит замазанная глиной печка.
– Что там о нас говорят в России? – спрашивает он.
– Вы так говорите – Россия, – отвечаю я. – При этом вы сам гражданин России, но для вас «мы» – это здесь. Да?
– Да! – внезапно кричит он.
Нагибается над столом, кричит, страшно кричит матом: Россия – это те, кто бросил его и его пацанов здесь, Россия – это те, кто поманил и обманул.
Лицо страшное, перекошенное, злое.
– А всё равно Россия – это мы, – устало добавляет он в конце этой горькой матерной тирады.
Я записываю в блокнот, так и не поняв, к чему он это сказал. Теперь я верю, что он бывает пугающим.
– Самое страшное, – говорит он, вбивая сигарету в пепельницу, – это приказ «не стрелять». Тяжёлый приказ.