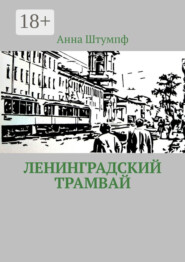По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут незнакомец сочувственно вытягивает губы вперед:
– Да никому, сударыня, нет дела до рода человеческого… И уже давно. Вам, как ревностной католичке, я открою эту тайну… Иисус так давно принес себя в жертву, что, будь она и в самом деле полезной, непременно бы себя оправдала. Оглянитесь вокруг, сударыня…
Я невольно повожу глазами по чадящему и холодному пространству авиньонского Нотр-Дама. Святые на витражах наблюдают за нами. За мной. За мной следят их вытянутые печальные глаза.
– Стало лучше на земле от его жертвы? – тут он отрицательно качает головой, и взгляд его серьезнеет. – Нет войн, голода, насилия?
Незнакомец кладет голову на сцепленные пальцы, и грусть разливается в темных глазах:
– Никому нет дела до человечества, поверьте вы наконец… Приходится все брать в эти вот руки, – он скашивает глаза на перчатки и затем лукаво смотрит на меня.
– Сударь, – лепечу я, – вы хотите сказать, что будь у вас в руках власть божья, вы наслали бы на нас чуму?!
– Я и наслал, – грустно улыбается собеседник. Наступает молчание. Он сидит поникший. Я лихорадочно пытаюсь свести мысли, разбежавшиеся словно мыши при виде кошки, воедино. Он болен. Или это шпион Папы. И в том, и в другом случае это опасно.
Мягко обращаюсь к нему:
– А зачем это нужно было делать, сударь? За что чума послана всем нам?!
Незнакомец смотрит на меня с терпеливым сожалением. Так на меня в детстве смотрел отец, когда я не сразу ухватывала суть вещей. Медленно, словно мы собираемся провести в соборе всю жизнь, он растолковывает мне:
– Идут века. Они складываются в тысячелетия. Люди рождаются и умирают. Только умирают медленнее и позже, чем раньше. Живут дольше. Живут лучше. Строят хорошие дома. Строят прочные корабли, – тут он наклоняется ко мне так близко, что я чувствую его обжигающее дыхание. – Вас становится слишком много на этом свете, сударыня.
Откидывается назад на спинку скамьи и барабанит пальцами по ней:
– Не заставишь же вас добровольно уходить из жизни… Людям хочется сладко есть, много пить… Жить они любят, – криво усмехается, – а умирать не хотят и боятся. Вот и приходят на выручку войны, ссоры, раздоры, эпидемии. Количество живущих на этом свете разумно регулируется. И заметьте, самым естественным образом!
Он молчит, искоса смотрит на меня и усмехается:
– Это, сударыня, называется, баланс. Латинское слово. Иначе – равновесие. Вот этим я и занимаюсь – поддержанием баланса в мире.
Это невыносимо. Мне удается наконец подняться. Звук шагов отдается эхом. Вслед мне летит:
– Прикажите написать синьору Франческо в Парму!
Замираю на месте. Синьору Франческо?!
Незнакомец все так же сидит на скамье вполоборота к выходу. Собака встала и смотрит на меня. Сжимаю ручку двери.
Внезапно в соборе становится темно – с шипением погасли все свечи. Потухли лица святых, что с укором разглядывали меня. В темноте я вижу только глаза его – незнакомца. Мне чудится потекший по стенам запах тлена и скорби. Вдруг под куполом заметалась птица. Она приближается – белый голубь ищет выход. Сердце истошно бьется. Ноет и бьется. Я боюсь услышать то, что уже почувствовало сердце!
Страшно открывать дверь, потому что уже знаю правду!
– Синьора Лаура скончалась.
***
Я вскрикиваю и просыпаюсь. Дверная ручка подсвечена лунной дорожкой. В кроватке сопит Олежка. Разметался и скинул одеяло. Я прикрываю его, осторожно вглядываясь в выражение лица. Все хорошо.
Иду спать. В голове прокручивается снова и снова: «Синьора Лаура скончалась».
Глава 2
«Плюх! Плюх! В моей тарелке сразу два горячих блина. По краям они черные.
– Мама, я же не ем горячие.
– Что?
Я вздыхаю и беру вилку.
Утро не задалось. Видимо, мама не проверила, с какой ноги сегодня нужно вставать. Она уронила ложку, полную теста для блинов, себе на платье. Она несколько раз положила мне очень горячие блины. Я же не супермен, чтобы съесть столько блинов, да еще горячих. И да – блины сегодня не коричневые. По краям они, как кошка у соседей – Уголек.
Мама спрашивает, почему я не ем, а я ем».
Мальчик разводит руками:
– Вот так у нас прошло утро…
Черноволосый небритый мужчина по ту сторону монитора смеется:
– Ты давай это… Маму не расстраивай – не надо капризничать, ладно? Горячие-не горячие – без капризов. Эпидемия это ж, как война. Подчинение и отвага. Угу?
– Угу! – такой же черноволосый Олежка отдает честь по свою сторону экрана.
– Ну, вот. Я ж тебя оставил за старшего… – Павел делает паузу и сдвигает брови. Затем подмигивает сыну. – Знаешь что? Я сейчас покажу тебе апельсиновые деревья! На балкон выйду только.
На экране замелькали пестрые шорты, кусочек плиточного пола, а затем полился ярчайший свет, и в квартиру Маши и Олежки ворвался шум с мексиканской улицы. Листва, листва, листва, наконец камера телефона поймала оранжевые круглые фонарики среди веток:
– Ух, ты! Мама! Настоящие апельсины!
Подошла Маша и с любопытством вгляделась в экран:
– Олежек, это померанцы. Ненастоящие апельсины.
– Померанцы? Они померли?
– Ну, что ты… Просто декоративные. Для красоты. Ну, их не едят.
– А что делают?
На мониторе вновь появляется небритое лицо Павла:
– Привет, родная!
– Привет! – Маша поправляет прическу.
– Олежек, сначала померанцы цветут. Это очень красиво. И здорово пахнет. А потом появляются плоды – горькие апельсины. На них смотрят. Не едят. Понял?