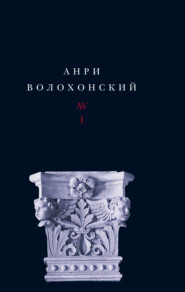По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание произведений в 3 томах. Т. II. Проза
Автор
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зная все это, я глубоко задумался. Бледный цветок моих воспоминаний, опыленный пчелами услышанных речей, дал завязь, позеленел, вырос в округлый плод и стал быстро желтеть. Но покраснеть его боку не дал Местный Переселенец, рассуждения которого перенесли наше маленькое общество в героические времена. Я полагаю, что наиболее подходящее название для них было бы «Список Кораблей», подобный тому, который приводит Гомер во второй главе поэмы об осаде Пергама.
– Вы тут всё правильно сказали об именах. В суть вникать долго и вредно. Какова, к примеру, суть корабля? – Чтобы он плавал. Вот его суть. Я сам плавал на многих кораблях и знаю доподлинно. Но судьба корабля становится интересной не тогда, когда он просто плавает, ничем не отличаясь от других кораблей, а когда он тонет. Ибо плавают корабли все одинаково, тонут же – своеобычно. Точно как люди. И тут я, да и все моряки – все мы знаем, что тонут они сообразно с тем, как названы. Имя неодолимо влияет на их гибельную судьбу. Возьмите знаменитый линкор «Марат». Сам знаменитый агитатор Марат не вылезал из ванны и был убит кинжалом в том же сосуде. На всем известной картине он изображен вяло перекинувшимся через край, торс в воде, лишь верхняя часть виднеется над поверхностью. Соименное ему судно не выходило из Маркизовой Лужи, что подле Кронштадта. В первые дни войны в него попала бомба и пустила беднягу ко дну. Но дно было мелкое, и «Марат» всю войну проторчал там, высунувшись точно как на картине. Второй случай. Большой морозильный траулер «Маяковский», порт приписки Мурманск, утонул невдалеке от Канады. У него прохудился маслопровод как раз над электрическим щитом в машинном отделении. Капли масла, падая на щит, произвели огромные голубые искры, пожар и, наконец, самоубийственный взрыв уничтожил самое сердце корабля. Пояснений не требуется, читайте биографию поэта. Броненосец «Потемкин» направился в Турцию, вероятно, штурмовать Измаил, для чего и выбросился на берег где-то поблизости. А вот «Севастополь» – сгорел прямо у причала, но не окончательно: его отстроили, а он опять сгорел – и снова был отстроен наподобие города-порта того же имени после каждой из бывших тут войн. Крейсер «Октябрьская Революция» перевернулся вверх дном со всеми кадетами, скопившимися по неопытности на одном борту – там же, где был уложен в неверном порядке груз. Давать имена кораблям нужно только после длительных размышлений. Вот французы – не могу им простить – назвали подводную лодку, – нет, вы только подумайте – подводную лодку! – «Эвридика», – а теперь поют, как новый Орфей: «Потерял я Эвридику». До чего пошлость доводит.
Но судьба Первого Атомохода – нечто глубоко специальное. Начать с того, что еще на слипе у него покривился килевой брус. Замысленную скорость он развивать не смог. Неладно было с защитой от вредных лучей из котла. Команды болели и мерли одна за другой. Не было никакой возможности это выносить. Ни в один порядочный порт не желали пускать. Проплававши полсрока, был он поставлен на мертвый якорь, все внутренности из него извлекли и заменили какой-то дрянью, так и лежит, как и его именитый эпоним. Сказал бы я вам пару слов про крейсер «Аврора».
– Не надо! – взмолился Аполлон Бавли. – Не надо про крейсер «Аврора». Пусть про Аврору расскажет нам пьяный Вукуб.
Тит на это удивился и смолк.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЕГИПЕТСКАЯ НОЧЬ
Умер мой любимый кот.
Н. Бердяев «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (глава «О бессмертии»)
Около этого времени я заметил за собой способность проваливаться куда-то внутренне, телом оставаясь на общем пути. Процессия жила своей особенной жизнью, ноги шли сами по себе, а глаза ума смотрели на другие территории. Сивый такого – казалось мне – не предвидел. Он словно руководствовался формальным принципом: идет человек – и ладно, пусть идет. Позднее выяснилось, что это не так и что у него был свой план отбить охоту, но этот план ему удалось исполнить только частично.
Так вот, я нырнул в умозрения и обнаружил себя на берегу моря Галилейского. Сейчас я могу только вспомнить общий вид дымного легкого куба, на дне которого лежала натянутая неблестящая вода. Под холмом спускалась вниз Тивериада. С краев слабо отражались высокие берега противоположных возвышенностей. Поверхность озера воссоздавала немного темнее голубоватое небо.
От созерцания меня пробудил знакомый голос архитектора Константина Холмского, вышедшего вместе с боковым потоком от Сенной площади, где на месте взорванной постройки стоит станция метрополитена. Он явился оттуда, неся на лице отпечаток преисподней осведомленности, обычный у людей, вынесенных на свет Божий эскалатором. На зов Ведекина присоединиться к нашему малому стаду Холмский отрешенно приблизился. Его сухое усталое лицо долго еще выражало задумчивость, но Артемий упорно терзал его, спрашивал, разузнавал, и вот, наконец, мы услышали слабый голос.
– Не было бы смерти – не было бы строительства, и никто ничего бы не строил. Это древняя логика. Отделившийся от трупа дух нуждался в новом жилище, которое следовало построить. Глупость и недоразумение состояли в том, что, слабо соображая, что такое дух, дом строили для тела. То есть в доме хоронили тело, а не дух, хотя тело и было тем домом для души, который требовалось бы заменить посмертной новозданной постройкой. И гроб был гораздо более важным сооружением, чем дом живых, он и изобретен был раньше. Если бы не гроб, не склеп, покойник всегда мог бы посягнуть на плоть еще не умершей родни, поскольку эта родственная плоть была для него естественным домом после того, как его собственное тело подверглось общей судьбе. Это была большая победа ума – догадаться, что духу предка нужен дом. Но еще большая уступка глупости – хоронить в этом доме труп. Хотя, может быть, я и ошибаюсь: это была дурная попытка обмануть душу умершего. Родня как бы говорила ему: «Вот твое тело. Оно твой бывший дом – и вот твой новый дом – вокруг бывшего тела. Иди туда, тебе нечего делать среди нас». Пирамиды фараонов для мумий не идут ни в какое сравнение с их жалкими дворцами при жизни, превосходя последние как размерами, так и материалом, его толщиною и качеством. Только исходя из гроба, возможно понять, что такое наш дом. Дом – это наше новое тело, новая плоть, полученная взамен той, которая была разрушена временем. Таково определение Здания.
Люди обнаружили живую действенную связь между сооружением и трупом. Следующий шаг – это когда мы осознали неодносторонность этой связи. Что не только сооружение нужно для трупа, но и труп для сооружения. Кое-где практиковался жестокий нечестный обычай убивать члена семьи, чтобы общий дом на его костях стоял крепче. Но чаще просто клали под порог наличного мертвеца. Египтяне зашли слишком далеко в своем зодчестве – их нелюбовь к трупам и загробные страхи не давали им двигаться вперед. Следующий шаг, о котором я уже говорил, был сделан поэтому не в Египте, а в соседней Передней Азии, где подвижное сообразительное население использовало покойников для охраны границ. Границ полей. Межевой камень служил и камнем могильным, – памятником умершему и одновременно – воплощением субстанции обладания полем. А схороненный мертвец из-под камня споспешествовал произрастанию злаков. Даже сам некоторым образом присутствовал в злаках, а поскольку зерна поедались живущими членами рода, – то и в них, в своей родне и потомках. Он постоянно проникал в них через пищу. Важно было, чтобы эта пища не досталась чужому. Поэтому следовало отгонять налетающих птиц, что достигалось поставлением различного рода пугал, которых роль играли изображения предка. Это было началом скульптуры. Птицы подозревались как носители чужеродных душ, и прогнать их могла только властная душа настоящего хранителя места.
С развитием торговли, когда большая часть зерна стала уходить на сторону, – оставшаяся малая собрала в себе все прежние энергии и начала высеваться исключительно на могилах. Позднее сеяли больше цветы, а когда все население ушло в города, неотчуждаемая земля осталась только на кладбищах.
Но вернемся к дому. Дом понимали как некое малое поле. Порог – это был межевой камень. Он отделял малое поле от большого. Под порогом лежали предки, кости предков. Не стоило поэтому попирать пороги ногами, «стоять на пороге». Но, перешагнув через порог, гость оказывался в потустороннем мире, – где вместе с живыми хозяевами дома обитали их небрезгливые мертвецы. Вернее, живые догадливо селились в обители мертвых. Это было, конечно, большое бесстрашие, полное безрассудство с египетской точки зрения, но так возникало и образовывалось представление о теле рода – о доме, объединяющем весь род, – живых вместе с покойниками. Последним – я говорю о предках – в римских хороших фамилиях отводился специальный сундучок с ларами и пенатами, и я думаю, что не ошибусь, если предположу, что русское слово «ларь» имеет с этим сундучком некую связь. Ларь с пенатами. Впрочем, я не филолог.
Теперь вы видите глубокое сопряжение трупа со строительством, и мое присутствие здесь не должно более казаться вам странным. Ведь и в Европе с тех пор и до недавнего времени, когда хотели сказать «род», часто говорили просто «дом». И меня как творца домов смерть, конечно, очень занимает. В особенности кончина такого необычайного человека, каков наш Роман Владимирович.
Холмский посмотрел вверх, пошевелил губами, но ничего больше не произнес. Мы слушали как зачарованные.
– Да что же в нем необычайного? – крикнул, наконец, Местный Переселенец.
– Как что? – удивился архитектор. – Необычайна его смерть. Безвременная кончина.
– Да что же в ней-то необычайного?
– Как что? – опять удивился архитектор. – Факт необычайный.
– Да факт же! Что необычайного в факте вам видится? Умер же. Зауряднейший же факт, – сказал я.
– Зауряднейший – это что умер человек, но судя по всему, что здесь происходит, наш покойник был существом бессмертным и даже вовсе не человеком. Вернее, – не только человеком.
– Чего?.. – затянул Тит. – Да я же их с детства знаю. С Волги они. В Саратове вместе жили.
– Я не о Саратове. Саратов – город как город.
– Там еще песни поют красивые… Страдания, – вспомнил Аполлон.
* * *
Город Саратов, раскинувшийся на всех шести берегах Волги, там, где она имеет свой наибольший размер, действительно представляет из других наших населенных пунктов слабейшую примечательность. Из великих людей тут провели часть своей жизни только Лобачевский, Чернышевский и Куйбышев, но Куйбышев потом уехал в Куйбышев, немного вниз по течению и здорово на восток. Салтыков-Щедрин изволили здесь губернаторствовать и наложить сардонический отпечаток на общественные институции преувеличенно и несправедливо. Зато природа тут хороша. Зимой белеют вершины недальних Жигулей, летом плоты деревьев тянутся вверх и вниз по течению. Цветут травы, поют птицы.
В этом поистине райском уголке прошло детство Романа Владимировича. Местный Переселенец говорил правду: это была пастораль, совершенно бы вслед Феокриту, если бы роль античных коз не играли в ней изобильные по саратовским пустырям собаки. Юный Ромка, бывало, припадал даже к ласковому вымени какой-нибудь кормящей суки вместе с другими ее щенками. Жизнь была простая, ничем не омраченная. Смерч войны обогнул город стороной. До семнадцати лет мальчика воспитывала любящая тетя, а там – его судьба и вовсе пошла заведенным порядком. Уже в возрасте Рыжов посетил раз родные места и поразился, как все изменилось вокруг.
* * *
– И все же он был не только человеком. Не просто человеком и, преимущественно, – не человеком, – обдумав рассказ, спокойно ответил Холмский. – Хотя каждый из признаков, о которых Вы говорили, и все они вместе действительно могли бы принадлежать человеку, хотя Саратов – и правда – город как город, это еще не означает, что комбинация перечисленных признаков, проведшая детские годы в городе-как-городе Саратове, непременно должна быть человеком. Я все же продолжаю считать, что Роман Владимирович Рыжов был и пока жив существом иной, чем мы, природы, тем более в эту минуту.
Мы притихли. Молчал и Константин. Одно дело было слушать веселые номиналистические экзерсисы поэта с филологом, другое дело – страшноватое покушение на сущность, исходившее от субъекта, в силу самой его профессии основательного и серьезного.
– Конечно, можно спросить, нельзя ли узнать о ком-то заранее – человек он или нет, еще до погребения. Но когда мы видим подобное многоногое шествие – тут спорить не о чем.
Холмский снова смолк. Тит немного подумал и забеспокоился:
– Расскажи-ка, расскажи-ка, что ты имеешь про нашу процессию?
Константину Холмскому не очень хотелось говорить. Его самого подавляли тяжкие замогильные мнения. Оттого он только и изрек печально:
– Змей. Мы теперь Змей.
Снова воцарилась тишина. Манихейское безмолвие длилось долго. Солнце успело несколько раз скрыться за облаками, посветить в просветы меж разбегавшихся туч, уронить золотые квитанции на пуговицы солдатиков, снова спрятаться за их серые спины, а мы по-прежнему молча перебирали ногами, осознавая каждый последующий шаг знамением тягостной вовлеченности.
– Значит – Змей, – сказал, наконец, Ведекин.
– Змей, – вздохнул Аполлон.
– Змей, змей, – закивал головой и я.
– Змей так змей, – вдруг решил Тит Вятич голосом, в котором звучало подобие надежды. – А откуда, собственно, ты взял эту идею со змеем? Тоже из какой-нибудь пирамиды?
– Верно, из пирамиды, – прозвенело в ответ.
– Так, может, это несерьезно, если из пирамиды?
– Нет, увы, это серьезно. Там нарисован длинный мерзкий Змей с ногами. Такой синий…
– Так ты, Константин, зря на нас этого змея вешаешь. Это тот змей – противочеловеческий, а мы не человека хороним. Сам же только что доказывал.
– Почему вы уверены, что Змей в пирамиде направлен именно против человечества? —спросил архитектор, немного оживляясь.
– По той очевидности, что умерший фараон терялся в посмертном змее. Как наш саратовский.
– Вы ничего не поняли, – возразил Холмский разочарованно. – Фараон – это менее всего человек. Реальность народного бытия в Египте, точно так же, как и в Саратове, концентрировалась, конечно, вокруг фараона, но он оттого человеком не становился. Он только воплощал физическую подвижность своих подданных, которая собиралась после его смерти в том самом мерзком Змее. Он являл видимому миру тайное лицо пресмыкающегося. Он был Личный Представитель Змея на поверхности земли, а вовсе не человеком. Его смерть вызывала Змея к жизни, что и мы теперь изображаем нашим погребальным шествием. Вот что я говорю. Потому я и полагаю, что за смертью Романа Владимировича последует небывало огромное строительство, и мне как архитектору работы будет предостаточно. Но как грустно чувствовать себя в составе похоронной змеи!