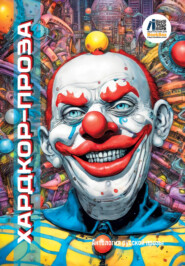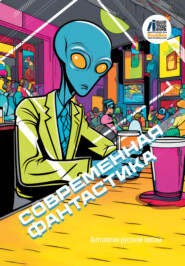По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В доме на берегу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прасковья, чувствуя перед собой в темноте Александру, – не узнавала – ни голос, ни манеру – странное видение.
– Не призрак я! Батюшка Василий, сын мой дорогой, велел привести тебя именно сегодня. Не люблю я расспросы о жизни и других людях, поэтому не говорила ни с кем. Дни я перепутала, – вот что, девочка, – завтра за сегодня приняла… О, быстрый! Митрий с кобылкой…
(Знакомое фырчание гнедой.)
– Я сестрам открылась – они отпустили нас с богом.
Александра уже пыталась освободить Прасковью от зимней одежды, расстегивала ловко пуговицы, не встречая сопротивления, ибо ощущение от новой Александры было более легкое и даже приятное, пряничное. В детстве на ярмарке Прасковье купили пряник, расписанный розово-желтой глазурью – в теремах и узорах. Прасковье захотелось отыскать для нее материнский платок – тяжелая крышка сундука, открывая сокровища, поддалась ее настоятельности – на деревянном мишке – опустелом бочонке – малахольный платок цыганский – не старушечий – настоящий подарок – к любому празднику!
Приехали они в город рано утром. Всю дорогу Александра пыталась отвлечь Прасковью от разных мыслей – показывала на сокрытую от них лесной дорогой и тучами россыпь звезд, пускаясь объяснять скорее собственные философские понятия, чем реальность:
– Наше пространство – оно наше, как и наше звездное небо. Связано с тем, что человеку нужно понимать, – какой он, где и как обитает, по каким меркам. Если оно наше, то оно всего лишь отверстие. Открыли глаз – светло, закрыли – темно. Это я про наше пространство, связанное с нашей землей, говорю, – и с другими землями, куда ты обязательно поедешь. И ничего кроме нашего пространства изучать мы не можем. Наверно, из-за того, что описать возможно лишь зримое или иным образом опознанное нами. То есть пространство существует по отношению хотя бы к одному-единственному предмету – дереву, речке или звезде в небе. Но все-таки людям свойственно стремиться к невозможному, несуществующему, не укладывающемуся в голове, не связанному с нашим миром, но не отбрасывающему мир, словно ненужный мяч, а преодолевающему его – весь, полностью, включая смерть!
– Вам батюшка Василий рассказал это? – спросила Прасковья; ее цепляющий все ум не пропустил и перышко, лежащее на материнском платке, в который ребенком-матрешкой завернулась сказительница.
Александра слегка остановилась – на бойких кочках дороги подпрыгнула от непрочности соломы под устроенным поверх телеги телом! Лицо ее, округленное в платке, тоже остановилось – ни улыбочки, ни складочки – морщины даже разгладились:
– Нет! Он тебе сам расскажет – что знает…
– Он не такой. Он не рассказывает!
Глава вторая. Сложный характер японских христиан
Непонятно долго ехала Прасковья, преображенная новым сиянием платья с белым воротничком, через Дальневосточную Республику в сопровождении разговаривающего по-русски иноземца, улыбающегося всеми зубами. Везде к ним относились благосклонно – садились ли они в поезд, покупали себе завтрак в магазинчике, о чем Прасковья раньше и мечтать не смела, играли со случайными попутчиками в японскую игру… Надо было поймать слово за хвост. Например, «флаг» Прасковья ловила ухом, а отпускала губами уже «агонь». Она всегда побеждала: ее знание фольклора и незнание орфографии вынуждало Котаро ей проигрывать, а другие не могли удержаться, чтобы не проиграть вежливому, явно православному японцу с потрясающим знанием русского языка и христианской манерой общаться. К удивлению Прасковьи, расплачивались они японскими денежками, которые назывались иенами, – и люди с удовольствием их брали, даже на зуб не пробовали.
Котаро должен был отвезти Прасковью в православную школу для девочек в Тоокёо, в полное распоряжение иерарха русской православной церкви в Японии Сергия Тихомирова – того самого на вожделенной фотографии батюшки, мечтающего о воссоединении с Московской патриархией после нескольких лет невольной автономии (предписанной патриархом Тихоном в 1920 г.). Непонятно долго все пошло не по писаному.
Всю дорогу, видя, как Котаро молился, невольно запомнила японские слова Отче наш: «Варэ, синдзу, хитори-но Ками-ти-ти…» И вместо врат привычного церковного убежища, но в далеком Тоокёо, Прасковья сделалась пленницей деревянных врат на земле Кёото. В диковинный сад вошли они с Котаро и пролили себе на руки прохладную воду из каменного сосуда, достигая по каменной, в тусклых фонарях, дорожке контуров легкого японского дома, подкрашенного молодыми кленами, укравшими настоящий вид; соседствовали молодые клены вечернего склона с контурами крыши дома. Неожиданные белые перевернутые конусы фонарей с красной широкой разлиновкой обрамления резанули ярче, выставляя с лучшей стороны крошечный садик хризантем. Причем синеватая цветовая группа с розовой, рыжей и белой сменяли друг друга в вышину нормальным конусом – не перевернутым, но пушистым, напоминающим обвислое пушистое ухо доброй собачки, у которой сердце – из сахара. Так – по-сказочному и не совсем реалистично воспринимала Прасковья очередное место, не связанное с родными ее лесами и зверями.
Зверей и лесов совсем не было на территории построенного крестным Котаро чайного домика. Из-за отодвинутой, словно лист дорогой бумаги, двери вышел старенький человечек с бритой головой, в черной одежде, сильно уплотненной накидкой в районе левого плеча и левой стороны груди.
– Добрый день, Праджня! – приветливо на плохом русском языке сказал он. – Мне нужна помощница в моем чайном домике, куда часто приходят мои русские друзья… Знаю, знаю! – превратился в безучастную стекляшку старичок при виде облачка возмущения на лице девушки. – Все знаю, госпожа! Во сне видел, в книгах читал…
Прасковья с ужасом обернулась на стоящего позади нее… но позади нее никого не было… Котаро след простыл.
– Он должен был мне привезти помощницу, я просил. Просил мудрую, – как ни в чем не бывало продолжил говорить старичок. – Выдержи три месяца и еще три месяца. Если выдержишь еще три – после трех, и три – захочешь остаться в стране стрекоз. Я больше не крестный Котаро, а его наставник Дзен.
– А ваши русские друзья – кто они? – спросила Прасковья, глядя прямо в его глаза.
– Обычные люди, – просто ответил наставник.
Прасковье некогда было думать о своем положении пленницы или гостьи, подарка наставнику от ученика или сироты. Яркие пронзительные впечатления наполняли ее с той поры, как от ее прыжка опрокинулась матушка Екатерина. Боясь приостановить их поток и осознать причастность к ее смерти, она кивнула головой и по-монастырски поклонилась новому наставнику, а в его лице – новой жизни, лежащей в двух мгновениях от нее – освобождению, спасению, прекращению…
– Зови меня Кусуноки Иккю, – прозвучал еле различимый теперь голос.
Чайный домик впустил Праджню в главную свою чайную комнату не так-сяк-эдак. Торжественно и трудно было вдыхать, осязая шерстинки воздуха, поскольку благостное стояние густого чая застыло на пороге, видимо провожая ушедших пока больше, чем встречая пришедшую. Очаг на полу и ниша в стене да мягкие татами под ногами; сквозь окно в разноуровневом потолке отсвет лунного света. Кусуноки Иккю ловко вставил снятые на день ширмы в торчащие рамы-стенки, и кроме открытого входа рядом с нишей, уводящего в неведомое, появилась комнатка-прихожая для второстепенного. Там по очереди при свете масляных ламп сада они поклонились друг другу, и монах-наставник предложил ей пройти присесть на пол возле очага с углями; на бронзе аккуратно сохранял тепло округлый, словно треть самовара, котёл. Легкая осенняя прохлада запустила нити в рукава сияющего платья Праджни, но девушка отдала четкий поклон иероглифу в нише, устроилась на коленях лицом к окну, ожидая чего угодно, лишь не дрожания музыкального инструмента. Кусуноки Иккю медленно работал – в широкой глиняной чаше взбивая и взбивая маленькой кисточкой горьковатый порошок чая. Кисточка под его нажимом становилась венчиком из усиков бабочки. В саду на струнах играл двойник Котаро. Неживым ветром он приближался к домику, словно собираясь пройти сквозь стены и водрузиться рядом с остальными – без их ведома или согласия. Так и произошло, теребя струны, исполняя то кваканье лягушек в освещенном фонарикам пруду, то брачные игры журавлей, он водворился на коленях рядом со священной, обкуренной благовониями нишей. Двойник был в кимоно с широченными рукавами – в темно-синем великолепии – и широких, более светлых, с богатыми складками, штанах-хакама. Наставник дзен продолжал взбивать чай. Благодаря его монотонной работе эмоции Праджни оказались гораздо сдержаннее и отстраненнее. Она просто следила за скользящими по грифу, окольцованными кусочками белой ткани пальцами, за тем, как самая толстая струна, лежащая на верхней части грифа, выше пальцев, пойманная там легкой возвышенностью его идеально закругленных контуров, переняв беспокойство от музыканта, касалась и избегала черного дерева, оставаясь яркой и светлой, и тугой…
Они молча выпили чай, затем молча поклонились едва различимому в темноте свитку в нише и вышли из домика. Кусуноки Иккю поспешил на деревянных скамеечках-гэта[8 - Гэта – деревянная обувь-дощечка, опирающаяся на две поперечные планки.] в свою хижинукелью на окраине Кёото, чтобы предаться медитации дзадзен[9 - Дзадзен – сидячая медитация.]. За ним тише и степеннее последовала Праджня, охраняемая бессмертным самураем с сямисэном[10 - Сямисэн (ласково – сями) – трехструнный безладовый щипковый музыкальный инструмент с закругленным по длине грифом, с мембраной из кошачьей кожи. Верхняя часть грифа весьма интересна. Под второй и третьей струнами особый порожек. Самая толстая струна – на самом грифе; многократно касаясь благодаря небольшой впадине перед порожком (долине Савари) возвышения Яма (горы), создает необычный звук (гул), обертоны, «приостановку звуков».].
Жизнь Праджни наполнялась ветром не подобно парусу. Месяц она прожила в предельно светлой и чистой комнате на втором этаже богатого и пустого японского дома. Спала на полу, разложив матрас-футон. Казалось, мир забыл ее и вновь наполнился сумерками ожидания. Она даже не учила японский язык, и никто не навещал ее, кроме монашка из монастыря, неведомо от кого знающего о ее существовании. Он приносил ей через день корзину с едой: ячменную кашу, острую маринованную редьку, вечные рис и чай. Однажды его сменила маленькая японка без возраста, и Прасковья перепугалась, чувствуя, что не в силах влиять на самое мелкое из событий – здесь, в Японии. Из комнатки на крышу дома поднималась лакированная лестница. Чуть-чуть пройдя по черепице, можно было взобраться на самый верх – площадку с шестами и перилами, на каких сушат белье и глазеют на пожары. Через месяц она раздвинула двери по-японски, стоя на коленях, и увидела и даже услышала Котаро. Радости ее не было конца. Японец больше не казался ей некрасивым уродцем. На этот раз он был в лучшем своем кимоно, с двумя мечами – длинным и коротким, и на шее его Праджня угадала орден. Не будучи образованной, хотя бы грамотной, она интуитивно угадывала очень многое. Орденская лента у него на шее из белого шелка с красными краями – с треугольничком смычки между правой и левой стороной – для блестяще-красивой подвески… Она бы разглядывала долго – его звезду, бело-золотую, с красным световым диском посередине, и вторую – на груди, если бы Котаро не сделал ей жест – напоминание о цели визита и одновременно – внушение: так нельзя! Его слегка орлиный нос и сдвинутые брови выражали предупреждение. Он не привык к общению с такими детьми! Он деловито прошел в центр комнаты, развел огонь в жаровне и кликнул кого-то, тенью просочившегося за ним в дом. От негаданной радости Прасковья не замечала второго человека. Она только почувствовала: огонь должен всегда гореть, пусть не огонь – а хотя бы тлеющие угли – то, чего весь месяц ей не хватало! Человек в форме был вроде его денщика или младшего сослуживца. Если бы Праджня увидела вдруг в доме всю Японскую армию, уже не удивилась бы. Как она ошибалась! Человек в форме оказался во всем равным Котаро, а за его спиной поначалу торчал знакомый ей музыкальный инструмент. Он суетился возле жаровни, а Котаро чинно сел, скрестив ноги, на циновку и сосредоточенно смотрел перед собой. И Праджня сидела на коленях подле, пока знакомый аромат чая не согрел ее. Напевная речь Котаро, почти лотосовое сведение рук над головой и четкое разведение их по сторонам с выставленной ладонью, резкое покачивание маски лица и восковое затмение косящего к центру (при помощи носа) левого глаза напомнили бы любой начитанной девушке спектакль театра Кабуки, который он недавно смотрел с трепетом и восхищением. Вероятно, он всего лишь мечтал об актере – исполнителе главной роли – о воине (арагото[11 - Арагото – «дикий» стиль игры в Кабуки в противоположность «мягкому, нежному» – воплощение безрассудных воинов, богов, демонов. Техника эффектного, «мчащегося» ухода со сцены такого персонажа называется «роппо» (двойное подпрыгивание на одной стопе, прежде чем поставить на землю вторую, – при высоко поднимаемых ногах и с наклоном тела вперед; необычное равновесие связано с традиционными танцами Японии и Бали, когда, блокируя движения бедер, человек двигается, слегка сгибая ноги в коленях и держит корпус прямо, как единый блок; плечи и руки, включая кисти в грациозной экспрессии, отыгрывая танец с предметом).]) – о его подпрыгивании в роппо, о его застывании в миэ[12 - Миэ – полное застывание актера в эффектной позе, своеобразная кульминация действия.] – о древних мистериях вокруг костра для задабривания оленьего, кабаньего, может, львиного тотема ради наделения рода жизненной силой. Это была тяжелая, сложная работа воина-шамана на благо всех!
– Кусуноки Иккю заболел. Я нашел его в плохом состоянии в его одинокой хижине. Поэтому не было твоего обучения. Но сейчас ему лучше. Мой брат начнет обучать тебя языку утром – ровно половинку часа. Затем он проводит тебя в чайный домик. Завтра там церемония для русских, и ты, пожалуйста, наблюдай самозабвенно. Наставник не совсем оправился. Будешь немного помогать. Вот тебе новая одежда – убери в комод.
Прасковья проглотила язык. С одной стороны, она начинала привыкать к опеке и отчужденности Котаро, а на самом деле стала не понимать, как обращаться к нему, в какой манере говорить. В момент расставания с ним после его безудержной игры на сямисэне, у двери этого дома, она, несмотря на всю призрачность его преображенного появления в чайном домике, все еще знала – кто – она, кто – он, откуда взялся волшебный наставник. Теперь же, видя орден-звезду с правой стороны груди и подвеску на ленте, зная наверняка сюжет, представляя обыденность дней и ночей, она совершенно потерялась. Опять Котаро ей улыбнулся, обнажив зубы до последнего…
Наутро она позанималась японским ровно половинку часа. Брат ее опекуна, хоть и во всем ему равный, по-русски говорил затрудненно, и занятие не было удачным. Он пришел в форме, выглядел учтивым, мягким и добрым – вполне достаточно для любого начала.
Ноябрь. Вечнозеленый лес, измененное платье Праджни – длинное, до пяток. Одно из ее платьев удлинили – искусно, авантажно и тепло. Куртка хаори на вате, словно весна никогда здесь не наступит. Эти бренные вещи она извлекала из черного блестящего комода (служившего одновременно и шкафом, и лестницей), чувствуя драгоценную японскую домовитость, возможную, разумеется, в доме с хорошей историей. Необремененная прошлым, Прасковья, с любопытством странника поднимаясь по лестницам и спускаясь, минуя холмы и «вздорные» крыши, перешла город Кёото, весь из бамбуковых (опускаемых для тепла на окна) циновок, глины, дерева и земли да красных листьев – к территории чайного домика. Она в обществе брата Котаро и Котаро. У обоих легендарная здесь фамилия Тоётоми, оба утверждают себя мифическими потомками угасшего рода Тоётоми Хидэёси[13 - Тоётоми Хидэёси (1536–1598) считается объединителем Японии. Поскольку был незнатного происхождения, не смог получить титул сёгуна, но должность регента дала ему неограниченную власть. Ему приписывают острый ум и хитрость, умение брать крепости без боя. В эпоху Мэйдзи ему начали строить храмы, чтобы напомнить японцам о преступлениях сёгуната Токугава, который надолго присвоил власть императора. Токугава Иеясу был скрытым врагом Хидэёси и после его смерти уничтожил его потомков.] (властитель с крестьянскими корнями получил фамилию от императора, а сам, не доверяя ни знатным, ни простым, отравил доброго друга – мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю). Недавно оба судились с древним кланом за выдвинутое подозрение в фальсификации их родства с легендой и, к чести судей, выиграли, получив кругленькую сумму денег и обосновавшись после этого в Кёото. Впрочем, обосновались единственные оставшиеся в роду братья эфемерно, как и требовала практика дзен. Прежде всего Тоётоми Котаро находился на военной службе и, как ходили анекдоты, играл в разведке японской армии ведущие роли – на театре советско-японских всевозможных действий. Тоётоми всячески парировал веселые слухи, объясняя досужим буржуям и аристократам, что скромный военный переводчик все делает для них, и даже его предок не мог быть шпионом, поэтому добился вящей славы в отечестве. Небогатым самураям было интересно, а буси и другие махровые аристократы чувствовали себя немного некомфортно: позор древнего клана в суде прошумел вдруг на страницах газет, и что-то в личном обаянии самого Котаро слегка напоминало японского Хаджу Насреддина или русского Иванушку-дурачка. Праджня вспомнила басню Крылова, услышанную от Александры: «А Васька слушает да ест». «Эта маска, эти «Анютины глазки» и зубы в цельной улыбке, – думала Прасковья, – от них веет монастырской тишиной, но и мечом, который приводят в порядок после нешуточной драки…»
Незаметно для Праджни они втроем миновали изгородь «Внешней росистой земли». Ослепленные слезой времени неизбывные камни разбросанными следами повели их в картину вечнозеленого сада с одинокими кустами праздничных камелий под деревцем не то сосны, не то гинко.
– Не срезай для гостей-самураев камелии, – строго сказал Котаро, но мягким взглядом приглушая свой голос.
– Почему? – спросила Праджня.
– Только не их. Они легко сгибаются. Никому из военных не срезай их.
Более Котаро с ней не говорил. Тропа «летящих камней»[14 - В дорожке из «летящих камней» камни кладут на таком расстоянии друг от друга, чтобы по ним было удобно ступать. Они как бы разбросаны и могут выступать из земли.] привела их к скамейке. Около нее валялась метелка; за ней домик с открытой верандой выглядел заманиловски-добрым.
Брат Котаро сел на скамейку, наслаждаясь живописью сада. Но Котаро, увешанный мечами, затянутый накрест поверх пояса оби поясками юбки-хакамы – шесть складок спереди – по три от центра и «первая справа» – под левосторонними, – хмурился от стояния в центре живописи. Если бы лазутчик (средневековый монах) увидел его неодобрение, наверняка высмеял и его несовершенные рисунки висели бы сейчас в нише-токонома вместо иероглифа. Виртуозно Котаро не выбривал лоб, а убирал не слишком подстриженные волосы в малюсенький хвостик. Упорно носил кожаную обувь вместо гэта. К счастью, ему был всего 21 год.
– Иди погрейся! – велел брат Котаро Праджне. – В доме есть очаг.
У очага в доме «ожидания»[15 - «Дом ожидания» – строение неподалеку от входных ворот, где собираются гости.] грели руки слуги чайного домика.
«Если есть кому работать, зачем им я?» – удивилась Праджня. Когда они приплыли из России, в порту женщины грузили уголь на пароход… Комната была похожа на ту, где она была, и на ту, где жила. Все комнаты с нишей, низенькими решетчатыми окнами с бумажными ставнями или спущенными на ночь бамбуковыми циновками. Почти во всех главный маг, чародей и волшебник – очаг. Вечные татами на полу. Дома очень сложные в мелких деталях, как и японская одежда, а внутри простые.
Слуги серьезно смотрели на Праджню, но она их не понимала. Терпеливая женщина в безрукавке и нехитром кимоно с укороченными рукавами принесла с улицы метелку из веток, перевязанную молодым бамбуком. Праджня неуверенно приняла из ее рук метелку и тут же выбежала из дома, – не ушли ли ее провожатые? Они ушли. Сад сразу приобрел для нее мрачный оттенок. Она зачем-то вспоминала, как у Котаро на поясе помимо мечей сверкала перламутровая коробочка со сладостями – и он не угощал ее. Вспомнилась матушка Екатерина и Марфа-посадница, и Лидия, отбиравшая конфеты, батюшка Василий… Вспомнились недавние корзины, щедро наполненные монастырской едой, и камелии, которые нельзя срезать для военных. В голове начался кавардак, и она легко побежала по уводящим во вторые ворота летящим камням дорожки-родзи. Выбежав из-за хризантем к чайному домику, она увидела заметно постаревшего Кусуноки Иккю. Его брови были подняты высоко вверх; он почти оправдывался перед Тоётоми Котаро. Ни слова не понимая, она только и услышала: «Госпожа-барышня здесь!» и ласковое:
– Укрась токонома хурмой и кленовой веткой! И обязательно отдай должное изображению Будды Амиды. Затем возвращайся к нам с чистой тряпочкой, чтобы протереть камень, на который самурай положит свое оружие перед входом в чайный домик.
Праджня разомкнула бамбуковую калиточку перед камнем-ступенькой в открывшийся перед ней лаз-надзиригути (высотой в аршин и шириной чуть менее); пока она оставляла кожаные туфли, купленные для нее во Владивостоке, на последней ступени и взбиралась на коленях вовнутрь, ведь неудобный вход был приподнят над землей, – ей вдогонку полетели случайные слова:
– Для всех, кого повстречаешь во времена ученичества, ты – невеста Тоётоми Котаро.
Праджня догадалась – оборачиваться на эти слова не стоит, уточнять детали нельзя.
– Это необходимость! Сейчас в Японии тебе нужен статус и родственник. Это твоя защита в храмах Японии милостью Бога.
Праджня на коленях проскользила по плетеной циновке за угол стены прихожей и заново увидела комнату. Войдя впервые в названное помещение через приемлемый вход рядом с лазом, она и не представляла, что все изнутри соразмерно и многообещающе. Поодаль и справа от нормального входа был по смыслу вход из комнатки для ополаскивания посуды к месту приготовления чая. «Это назову «вход на Путь Чая»!» – подумалось Праджне. Опорные столбы в виде искривленных стволов стояли единственной мебелью, скрадывающей пространство и подчеркивающей в то же время его высоту под многоуровневым потолком. Один из таких столбов остался позади нее, другой перевился с нишей. Место, где готовили возле очага чай, занималось у правой стены, и утварь идеально сложенная там свидетельствовала об этом. По центру левой стены, примыкающей и к прихожей «нормального входа» и к нише, очерчивалось окно. Расположившись лицом к окну в первый приход, она невольно заняла татами хозяина рядом с местом для приготовления чая – под более низкой частью потолка. Тогда она ощутила спиной приятное тепло очага, разливающееся по телу вместе с приятным вживанием в щекочущую работу венчика внутри чаши – резвый звук позади себя. Мысленно она теперь видела, как сидят гости и хозяин. На татами, вытянутом вдоль токонома, боком к ее сакральной левой части и спиной к стене, восседал главный гость. Рядом с ним спиной к окну – на татами, вытянутом вдоль левой стены, скромно выпрямился обычный гость. «Нет! Я не заняла местечко хозяина!» – обрадовалась Праджня, – По центру – между подоконным татами и татами для приготовления чая – остается целых две возможности для отдыха. Я села дальше от очага и ближе к нише, значит, заняла правильную землю!»
Приближаясь с помощью рук, передвигающих за собой легкое тело, к Будде Амиде в нише-токонома, она знала, что должна будет взобраться еще на одну ступеньку – пола ниши. Ее обрадовала трудность и новизна такого приближения. Из «входа на путь чая» рука служанки тянула к ней квадратную корзину с хурмой и трепетной веточкой клена. Служанка не подходила, а протягивала, чтобы ее присутствие не помешало невесте Тоётоми Котаро освоиться в чайном пространстве. Передав подношение Будде, рука тут же исчезла в проеме – а будто никакой руки не было! Осознание трудности задачи – взобраться на коленях с корзиной, вынудило осознать абсурд подобного действия. Спешить все равно было некуда: Праджня поклонилась Будде, а в его лице – всем буддийским наставникам, включая почему-то и Тоётоми Котаро, и встала, чтобы свободно украсить нишу. Простые фрукты драгоценностями легли на пол ниши, кривая ветка украсила вазу. В ладони благодаря той же чуткой служанке уже появилась нужная для вытирания камня тряпочка. Вскоре Праджня была возле каменной емкости с водой и, ухватив черпак за длинную тонкую ручку, окатила указанный Кусуноки Иккю камень ключевой водицей.
– Смейся! Смейся! – внезапно улыбнулся Тоётоми Котаро.
А Праджня рассмеялась и в охотку вытерла камень насухо.
Кусуноки Иккю тоже улыбнулся ей. Старичок вошел в калиточку, раздвинул «нормальный вход» и, склонив голову, пригласил Котаро войти. Тогда самурай развязал закрепляющий главное оружие шнурок, вытащил из-за пояса сначала бесценную катану и бережно положил ее на специальный плоский камень; после этого он более безразлично достал маленький меч и положил рядом. Похожим черпаком он омыл по очереди обе руки, к удивлению Праджни, ополоснул рот и, сняв кожаные туфли, ступил внутрь чайного домика.
– Не призрак я! Батюшка Василий, сын мой дорогой, велел привести тебя именно сегодня. Не люблю я расспросы о жизни и других людях, поэтому не говорила ни с кем. Дни я перепутала, – вот что, девочка, – завтра за сегодня приняла… О, быстрый! Митрий с кобылкой…
(Знакомое фырчание гнедой.)
– Я сестрам открылась – они отпустили нас с богом.
Александра уже пыталась освободить Прасковью от зимней одежды, расстегивала ловко пуговицы, не встречая сопротивления, ибо ощущение от новой Александры было более легкое и даже приятное, пряничное. В детстве на ярмарке Прасковье купили пряник, расписанный розово-желтой глазурью – в теремах и узорах. Прасковье захотелось отыскать для нее материнский платок – тяжелая крышка сундука, открывая сокровища, поддалась ее настоятельности – на деревянном мишке – опустелом бочонке – малахольный платок цыганский – не старушечий – настоящий подарок – к любому празднику!
Приехали они в город рано утром. Всю дорогу Александра пыталась отвлечь Прасковью от разных мыслей – показывала на сокрытую от них лесной дорогой и тучами россыпь звезд, пускаясь объяснять скорее собственные философские понятия, чем реальность:
– Наше пространство – оно наше, как и наше звездное небо. Связано с тем, что человеку нужно понимать, – какой он, где и как обитает, по каким меркам. Если оно наше, то оно всего лишь отверстие. Открыли глаз – светло, закрыли – темно. Это я про наше пространство, связанное с нашей землей, говорю, – и с другими землями, куда ты обязательно поедешь. И ничего кроме нашего пространства изучать мы не можем. Наверно, из-за того, что описать возможно лишь зримое или иным образом опознанное нами. То есть пространство существует по отношению хотя бы к одному-единственному предмету – дереву, речке или звезде в небе. Но все-таки людям свойственно стремиться к невозможному, несуществующему, не укладывающемуся в голове, не связанному с нашим миром, но не отбрасывающему мир, словно ненужный мяч, а преодолевающему его – весь, полностью, включая смерть!
– Вам батюшка Василий рассказал это? – спросила Прасковья; ее цепляющий все ум не пропустил и перышко, лежащее на материнском платке, в который ребенком-матрешкой завернулась сказительница.
Александра слегка остановилась – на бойких кочках дороги подпрыгнула от непрочности соломы под устроенным поверх телеги телом! Лицо ее, округленное в платке, тоже остановилось – ни улыбочки, ни складочки – морщины даже разгладились:
– Нет! Он тебе сам расскажет – что знает…
– Он не такой. Он не рассказывает!
Глава вторая. Сложный характер японских христиан
Непонятно долго ехала Прасковья, преображенная новым сиянием платья с белым воротничком, через Дальневосточную Республику в сопровождении разговаривающего по-русски иноземца, улыбающегося всеми зубами. Везде к ним относились благосклонно – садились ли они в поезд, покупали себе завтрак в магазинчике, о чем Прасковья раньше и мечтать не смела, играли со случайными попутчиками в японскую игру… Надо было поймать слово за хвост. Например, «флаг» Прасковья ловила ухом, а отпускала губами уже «агонь». Она всегда побеждала: ее знание фольклора и незнание орфографии вынуждало Котаро ей проигрывать, а другие не могли удержаться, чтобы не проиграть вежливому, явно православному японцу с потрясающим знанием русского языка и христианской манерой общаться. К удивлению Прасковьи, расплачивались они японскими денежками, которые назывались иенами, – и люди с удовольствием их брали, даже на зуб не пробовали.
Котаро должен был отвезти Прасковью в православную школу для девочек в Тоокёо, в полное распоряжение иерарха русской православной церкви в Японии Сергия Тихомирова – того самого на вожделенной фотографии батюшки, мечтающего о воссоединении с Московской патриархией после нескольких лет невольной автономии (предписанной патриархом Тихоном в 1920 г.). Непонятно долго все пошло не по писаному.
Всю дорогу, видя, как Котаро молился, невольно запомнила японские слова Отче наш: «Варэ, синдзу, хитори-но Ками-ти-ти…» И вместо врат привычного церковного убежища, но в далеком Тоокёо, Прасковья сделалась пленницей деревянных врат на земле Кёото. В диковинный сад вошли они с Котаро и пролили себе на руки прохладную воду из каменного сосуда, достигая по каменной, в тусклых фонарях, дорожке контуров легкого японского дома, подкрашенного молодыми кленами, укравшими настоящий вид; соседствовали молодые клены вечернего склона с контурами крыши дома. Неожиданные белые перевернутые конусы фонарей с красной широкой разлиновкой обрамления резанули ярче, выставляя с лучшей стороны крошечный садик хризантем. Причем синеватая цветовая группа с розовой, рыжей и белой сменяли друг друга в вышину нормальным конусом – не перевернутым, но пушистым, напоминающим обвислое пушистое ухо доброй собачки, у которой сердце – из сахара. Так – по-сказочному и не совсем реалистично воспринимала Прасковья очередное место, не связанное с родными ее лесами и зверями.
Зверей и лесов совсем не было на территории построенного крестным Котаро чайного домика. Из-за отодвинутой, словно лист дорогой бумаги, двери вышел старенький человечек с бритой головой, в черной одежде, сильно уплотненной накидкой в районе левого плеча и левой стороны груди.
– Добрый день, Праджня! – приветливо на плохом русском языке сказал он. – Мне нужна помощница в моем чайном домике, куда часто приходят мои русские друзья… Знаю, знаю! – превратился в безучастную стекляшку старичок при виде облачка возмущения на лице девушки. – Все знаю, госпожа! Во сне видел, в книгах читал…
Прасковья с ужасом обернулась на стоящего позади нее… но позади нее никого не было… Котаро след простыл.
– Он должен был мне привезти помощницу, я просил. Просил мудрую, – как ни в чем не бывало продолжил говорить старичок. – Выдержи три месяца и еще три месяца. Если выдержишь еще три – после трех, и три – захочешь остаться в стране стрекоз. Я больше не крестный Котаро, а его наставник Дзен.
– А ваши русские друзья – кто они? – спросила Прасковья, глядя прямо в его глаза.
– Обычные люди, – просто ответил наставник.
Прасковье некогда было думать о своем положении пленницы или гостьи, подарка наставнику от ученика или сироты. Яркие пронзительные впечатления наполняли ее с той поры, как от ее прыжка опрокинулась матушка Екатерина. Боясь приостановить их поток и осознать причастность к ее смерти, она кивнула головой и по-монастырски поклонилась новому наставнику, а в его лице – новой жизни, лежащей в двух мгновениях от нее – освобождению, спасению, прекращению…
– Зови меня Кусуноки Иккю, – прозвучал еле различимый теперь голос.
Чайный домик впустил Праджню в главную свою чайную комнату не так-сяк-эдак. Торжественно и трудно было вдыхать, осязая шерстинки воздуха, поскольку благостное стояние густого чая застыло на пороге, видимо провожая ушедших пока больше, чем встречая пришедшую. Очаг на полу и ниша в стене да мягкие татами под ногами; сквозь окно в разноуровневом потолке отсвет лунного света. Кусуноки Иккю ловко вставил снятые на день ширмы в торчащие рамы-стенки, и кроме открытого входа рядом с нишей, уводящего в неведомое, появилась комнатка-прихожая для второстепенного. Там по очереди при свете масляных ламп сада они поклонились друг другу, и монах-наставник предложил ей пройти присесть на пол возле очага с углями; на бронзе аккуратно сохранял тепло округлый, словно треть самовара, котёл. Легкая осенняя прохлада запустила нити в рукава сияющего платья Праджни, но девушка отдала четкий поклон иероглифу в нише, устроилась на коленях лицом к окну, ожидая чего угодно, лишь не дрожания музыкального инструмента. Кусуноки Иккю медленно работал – в широкой глиняной чаше взбивая и взбивая маленькой кисточкой горьковатый порошок чая. Кисточка под его нажимом становилась венчиком из усиков бабочки. В саду на струнах играл двойник Котаро. Неживым ветром он приближался к домику, словно собираясь пройти сквозь стены и водрузиться рядом с остальными – без их ведома или согласия. Так и произошло, теребя струны, исполняя то кваканье лягушек в освещенном фонарикам пруду, то брачные игры журавлей, он водворился на коленях рядом со священной, обкуренной благовониями нишей. Двойник был в кимоно с широченными рукавами – в темно-синем великолепии – и широких, более светлых, с богатыми складками, штанах-хакама. Наставник дзен продолжал взбивать чай. Благодаря его монотонной работе эмоции Праджни оказались гораздо сдержаннее и отстраненнее. Она просто следила за скользящими по грифу, окольцованными кусочками белой ткани пальцами, за тем, как самая толстая струна, лежащая на верхней части грифа, выше пальцев, пойманная там легкой возвышенностью его идеально закругленных контуров, переняв беспокойство от музыканта, касалась и избегала черного дерева, оставаясь яркой и светлой, и тугой…
Они молча выпили чай, затем молча поклонились едва различимому в темноте свитку в нише и вышли из домика. Кусуноки Иккю поспешил на деревянных скамеечках-гэта[8 - Гэта – деревянная обувь-дощечка, опирающаяся на две поперечные планки.] в свою хижинукелью на окраине Кёото, чтобы предаться медитации дзадзен[9 - Дзадзен – сидячая медитация.]. За ним тише и степеннее последовала Праджня, охраняемая бессмертным самураем с сямисэном[10 - Сямисэн (ласково – сями) – трехструнный безладовый щипковый музыкальный инструмент с закругленным по длине грифом, с мембраной из кошачьей кожи. Верхняя часть грифа весьма интересна. Под второй и третьей струнами особый порожек. Самая толстая струна – на самом грифе; многократно касаясь благодаря небольшой впадине перед порожком (долине Савари) возвышения Яма (горы), создает необычный звук (гул), обертоны, «приостановку звуков».].
Жизнь Праджни наполнялась ветром не подобно парусу. Месяц она прожила в предельно светлой и чистой комнате на втором этаже богатого и пустого японского дома. Спала на полу, разложив матрас-футон. Казалось, мир забыл ее и вновь наполнился сумерками ожидания. Она даже не учила японский язык, и никто не навещал ее, кроме монашка из монастыря, неведомо от кого знающего о ее существовании. Он приносил ей через день корзину с едой: ячменную кашу, острую маринованную редьку, вечные рис и чай. Однажды его сменила маленькая японка без возраста, и Прасковья перепугалась, чувствуя, что не в силах влиять на самое мелкое из событий – здесь, в Японии. Из комнатки на крышу дома поднималась лакированная лестница. Чуть-чуть пройдя по черепице, можно было взобраться на самый верх – площадку с шестами и перилами, на каких сушат белье и глазеют на пожары. Через месяц она раздвинула двери по-японски, стоя на коленях, и увидела и даже услышала Котаро. Радости ее не было конца. Японец больше не казался ей некрасивым уродцем. На этот раз он был в лучшем своем кимоно, с двумя мечами – длинным и коротким, и на шее его Праджня угадала орден. Не будучи образованной, хотя бы грамотной, она интуитивно угадывала очень многое. Орденская лента у него на шее из белого шелка с красными краями – с треугольничком смычки между правой и левой стороной – для блестяще-красивой подвески… Она бы разглядывала долго – его звезду, бело-золотую, с красным световым диском посередине, и вторую – на груди, если бы Котаро не сделал ей жест – напоминание о цели визита и одновременно – внушение: так нельзя! Его слегка орлиный нос и сдвинутые брови выражали предупреждение. Он не привык к общению с такими детьми! Он деловито прошел в центр комнаты, развел огонь в жаровне и кликнул кого-то, тенью просочившегося за ним в дом. От негаданной радости Прасковья не замечала второго человека. Она только почувствовала: огонь должен всегда гореть, пусть не огонь – а хотя бы тлеющие угли – то, чего весь месяц ей не хватало! Человек в форме был вроде его денщика или младшего сослуживца. Если бы Праджня увидела вдруг в доме всю Японскую армию, уже не удивилась бы. Как она ошибалась! Человек в форме оказался во всем равным Котаро, а за его спиной поначалу торчал знакомый ей музыкальный инструмент. Он суетился возле жаровни, а Котаро чинно сел, скрестив ноги, на циновку и сосредоточенно смотрел перед собой. И Праджня сидела на коленях подле, пока знакомый аромат чая не согрел ее. Напевная речь Котаро, почти лотосовое сведение рук над головой и четкое разведение их по сторонам с выставленной ладонью, резкое покачивание маски лица и восковое затмение косящего к центру (при помощи носа) левого глаза напомнили бы любой начитанной девушке спектакль театра Кабуки, который он недавно смотрел с трепетом и восхищением. Вероятно, он всего лишь мечтал об актере – исполнителе главной роли – о воине (арагото[11 - Арагото – «дикий» стиль игры в Кабуки в противоположность «мягкому, нежному» – воплощение безрассудных воинов, богов, демонов. Техника эффектного, «мчащегося» ухода со сцены такого персонажа называется «роппо» (двойное подпрыгивание на одной стопе, прежде чем поставить на землю вторую, – при высоко поднимаемых ногах и с наклоном тела вперед; необычное равновесие связано с традиционными танцами Японии и Бали, когда, блокируя движения бедер, человек двигается, слегка сгибая ноги в коленях и держит корпус прямо, как единый блок; плечи и руки, включая кисти в грациозной экспрессии, отыгрывая танец с предметом).]) – о его подпрыгивании в роппо, о его застывании в миэ[12 - Миэ – полное застывание актера в эффектной позе, своеобразная кульминация действия.] – о древних мистериях вокруг костра для задабривания оленьего, кабаньего, может, львиного тотема ради наделения рода жизненной силой. Это была тяжелая, сложная работа воина-шамана на благо всех!
– Кусуноки Иккю заболел. Я нашел его в плохом состоянии в его одинокой хижине. Поэтому не было твоего обучения. Но сейчас ему лучше. Мой брат начнет обучать тебя языку утром – ровно половинку часа. Затем он проводит тебя в чайный домик. Завтра там церемония для русских, и ты, пожалуйста, наблюдай самозабвенно. Наставник не совсем оправился. Будешь немного помогать. Вот тебе новая одежда – убери в комод.
Прасковья проглотила язык. С одной стороны, она начинала привыкать к опеке и отчужденности Котаро, а на самом деле стала не понимать, как обращаться к нему, в какой манере говорить. В момент расставания с ним после его безудержной игры на сямисэне, у двери этого дома, она, несмотря на всю призрачность его преображенного появления в чайном домике, все еще знала – кто – она, кто – он, откуда взялся волшебный наставник. Теперь же, видя орден-звезду с правой стороны груди и подвеску на ленте, зная наверняка сюжет, представляя обыденность дней и ночей, она совершенно потерялась. Опять Котаро ей улыбнулся, обнажив зубы до последнего…
Наутро она позанималась японским ровно половинку часа. Брат ее опекуна, хоть и во всем ему равный, по-русски говорил затрудненно, и занятие не было удачным. Он пришел в форме, выглядел учтивым, мягким и добрым – вполне достаточно для любого начала.
Ноябрь. Вечнозеленый лес, измененное платье Праджни – длинное, до пяток. Одно из ее платьев удлинили – искусно, авантажно и тепло. Куртка хаори на вате, словно весна никогда здесь не наступит. Эти бренные вещи она извлекала из черного блестящего комода (служившего одновременно и шкафом, и лестницей), чувствуя драгоценную японскую домовитость, возможную, разумеется, в доме с хорошей историей. Необремененная прошлым, Прасковья, с любопытством странника поднимаясь по лестницам и спускаясь, минуя холмы и «вздорные» крыши, перешла город Кёото, весь из бамбуковых (опускаемых для тепла на окна) циновок, глины, дерева и земли да красных листьев – к территории чайного домика. Она в обществе брата Котаро и Котаро. У обоих легендарная здесь фамилия Тоётоми, оба утверждают себя мифическими потомками угасшего рода Тоётоми Хидэёси[13 - Тоётоми Хидэёси (1536–1598) считается объединителем Японии. Поскольку был незнатного происхождения, не смог получить титул сёгуна, но должность регента дала ему неограниченную власть. Ему приписывают острый ум и хитрость, умение брать крепости без боя. В эпоху Мэйдзи ему начали строить храмы, чтобы напомнить японцам о преступлениях сёгуната Токугава, который надолго присвоил власть императора. Токугава Иеясу был скрытым врагом Хидэёси и после его смерти уничтожил его потомков.] (властитель с крестьянскими корнями получил фамилию от императора, а сам, не доверяя ни знатным, ни простым, отравил доброго друга – мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю). Недавно оба судились с древним кланом за выдвинутое подозрение в фальсификации их родства с легендой и, к чести судей, выиграли, получив кругленькую сумму денег и обосновавшись после этого в Кёото. Впрочем, обосновались единственные оставшиеся в роду братья эфемерно, как и требовала практика дзен. Прежде всего Тоётоми Котаро находился на военной службе и, как ходили анекдоты, играл в разведке японской армии ведущие роли – на театре советско-японских всевозможных действий. Тоётоми всячески парировал веселые слухи, объясняя досужим буржуям и аристократам, что скромный военный переводчик все делает для них, и даже его предок не мог быть шпионом, поэтому добился вящей славы в отечестве. Небогатым самураям было интересно, а буси и другие махровые аристократы чувствовали себя немного некомфортно: позор древнего клана в суде прошумел вдруг на страницах газет, и что-то в личном обаянии самого Котаро слегка напоминало японского Хаджу Насреддина или русского Иванушку-дурачка. Праджня вспомнила басню Крылова, услышанную от Александры: «А Васька слушает да ест». «Эта маска, эти «Анютины глазки» и зубы в цельной улыбке, – думала Прасковья, – от них веет монастырской тишиной, но и мечом, который приводят в порядок после нешуточной драки…»
Незаметно для Праджни они втроем миновали изгородь «Внешней росистой земли». Ослепленные слезой времени неизбывные камни разбросанными следами повели их в картину вечнозеленого сада с одинокими кустами праздничных камелий под деревцем не то сосны, не то гинко.
– Не срезай для гостей-самураев камелии, – строго сказал Котаро, но мягким взглядом приглушая свой голос.
– Почему? – спросила Праджня.
– Только не их. Они легко сгибаются. Никому из военных не срезай их.
Более Котаро с ней не говорил. Тропа «летящих камней»[14 - В дорожке из «летящих камней» камни кладут на таком расстоянии друг от друга, чтобы по ним было удобно ступать. Они как бы разбросаны и могут выступать из земли.] привела их к скамейке. Около нее валялась метелка; за ней домик с открытой верандой выглядел заманиловски-добрым.
Брат Котаро сел на скамейку, наслаждаясь живописью сада. Но Котаро, увешанный мечами, затянутый накрест поверх пояса оби поясками юбки-хакамы – шесть складок спереди – по три от центра и «первая справа» – под левосторонними, – хмурился от стояния в центре живописи. Если бы лазутчик (средневековый монах) увидел его неодобрение, наверняка высмеял и его несовершенные рисунки висели бы сейчас в нише-токонома вместо иероглифа. Виртуозно Котаро не выбривал лоб, а убирал не слишком подстриженные волосы в малюсенький хвостик. Упорно носил кожаную обувь вместо гэта. К счастью, ему был всего 21 год.
– Иди погрейся! – велел брат Котаро Праджне. – В доме есть очаг.
У очага в доме «ожидания»[15 - «Дом ожидания» – строение неподалеку от входных ворот, где собираются гости.] грели руки слуги чайного домика.
«Если есть кому работать, зачем им я?» – удивилась Праджня. Когда они приплыли из России, в порту женщины грузили уголь на пароход… Комната была похожа на ту, где она была, и на ту, где жила. Все комнаты с нишей, низенькими решетчатыми окнами с бумажными ставнями или спущенными на ночь бамбуковыми циновками. Почти во всех главный маг, чародей и волшебник – очаг. Вечные татами на полу. Дома очень сложные в мелких деталях, как и японская одежда, а внутри простые.
Слуги серьезно смотрели на Праджню, но она их не понимала. Терпеливая женщина в безрукавке и нехитром кимоно с укороченными рукавами принесла с улицы метелку из веток, перевязанную молодым бамбуком. Праджня неуверенно приняла из ее рук метелку и тут же выбежала из дома, – не ушли ли ее провожатые? Они ушли. Сад сразу приобрел для нее мрачный оттенок. Она зачем-то вспоминала, как у Котаро на поясе помимо мечей сверкала перламутровая коробочка со сладостями – и он не угощал ее. Вспомнилась матушка Екатерина и Марфа-посадница, и Лидия, отбиравшая конфеты, батюшка Василий… Вспомнились недавние корзины, щедро наполненные монастырской едой, и камелии, которые нельзя срезать для военных. В голове начался кавардак, и она легко побежала по уводящим во вторые ворота летящим камням дорожки-родзи. Выбежав из-за хризантем к чайному домику, она увидела заметно постаревшего Кусуноки Иккю. Его брови были подняты высоко вверх; он почти оправдывался перед Тоётоми Котаро. Ни слова не понимая, она только и услышала: «Госпожа-барышня здесь!» и ласковое:
– Укрась токонома хурмой и кленовой веткой! И обязательно отдай должное изображению Будды Амиды. Затем возвращайся к нам с чистой тряпочкой, чтобы протереть камень, на который самурай положит свое оружие перед входом в чайный домик.
Праджня разомкнула бамбуковую калиточку перед камнем-ступенькой в открывшийся перед ней лаз-надзиригути (высотой в аршин и шириной чуть менее); пока она оставляла кожаные туфли, купленные для нее во Владивостоке, на последней ступени и взбиралась на коленях вовнутрь, ведь неудобный вход был приподнят над землей, – ей вдогонку полетели случайные слова:
– Для всех, кого повстречаешь во времена ученичества, ты – невеста Тоётоми Котаро.
Праджня догадалась – оборачиваться на эти слова не стоит, уточнять детали нельзя.
– Это необходимость! Сейчас в Японии тебе нужен статус и родственник. Это твоя защита в храмах Японии милостью Бога.
Праджня на коленях проскользила по плетеной циновке за угол стены прихожей и заново увидела комнату. Войдя впервые в названное помещение через приемлемый вход рядом с лазом, она и не представляла, что все изнутри соразмерно и многообещающе. Поодаль и справа от нормального входа был по смыслу вход из комнатки для ополаскивания посуды к месту приготовления чая. «Это назову «вход на Путь Чая»!» – подумалось Праджне. Опорные столбы в виде искривленных стволов стояли единственной мебелью, скрадывающей пространство и подчеркивающей в то же время его высоту под многоуровневым потолком. Один из таких столбов остался позади нее, другой перевился с нишей. Место, где готовили возле очага чай, занималось у правой стены, и утварь идеально сложенная там свидетельствовала об этом. По центру левой стены, примыкающей и к прихожей «нормального входа» и к нише, очерчивалось окно. Расположившись лицом к окну в первый приход, она невольно заняла татами хозяина рядом с местом для приготовления чая – под более низкой частью потолка. Тогда она ощутила спиной приятное тепло очага, разливающееся по телу вместе с приятным вживанием в щекочущую работу венчика внутри чаши – резвый звук позади себя. Мысленно она теперь видела, как сидят гости и хозяин. На татами, вытянутом вдоль токонома, боком к ее сакральной левой части и спиной к стене, восседал главный гость. Рядом с ним спиной к окну – на татами, вытянутом вдоль левой стены, скромно выпрямился обычный гость. «Нет! Я не заняла местечко хозяина!» – обрадовалась Праджня, – По центру – между подоконным татами и татами для приготовления чая – остается целых две возможности для отдыха. Я села дальше от очага и ближе к нише, значит, заняла правильную землю!»
Приближаясь с помощью рук, передвигающих за собой легкое тело, к Будде Амиде в нише-токонома, она знала, что должна будет взобраться еще на одну ступеньку – пола ниши. Ее обрадовала трудность и новизна такого приближения. Из «входа на путь чая» рука служанки тянула к ней квадратную корзину с хурмой и трепетной веточкой клена. Служанка не подходила, а протягивала, чтобы ее присутствие не помешало невесте Тоётоми Котаро освоиться в чайном пространстве. Передав подношение Будде, рука тут же исчезла в проеме – а будто никакой руки не было! Осознание трудности задачи – взобраться на коленях с корзиной, вынудило осознать абсурд подобного действия. Спешить все равно было некуда: Праджня поклонилась Будде, а в его лице – всем буддийским наставникам, включая почему-то и Тоётоми Котаро, и встала, чтобы свободно украсить нишу. Простые фрукты драгоценностями легли на пол ниши, кривая ветка украсила вазу. В ладони благодаря той же чуткой служанке уже появилась нужная для вытирания камня тряпочка. Вскоре Праджня была возле каменной емкости с водой и, ухватив черпак за длинную тонкую ручку, окатила указанный Кусуноки Иккю камень ключевой водицей.
– Смейся! Смейся! – внезапно улыбнулся Тоётоми Котаро.
А Праджня рассмеялась и в охотку вытерла камень насухо.
Кусуноки Иккю тоже улыбнулся ей. Старичок вошел в калиточку, раздвинул «нормальный вход» и, склонив голову, пригласил Котаро войти. Тогда самурай развязал закрепляющий главное оружие шнурок, вытащил из-за пояса сначала бесценную катану и бережно положил ее на специальный плоский камень; после этого он более безразлично достал маленький меч и положил рядом. Похожим черпаком он омыл по очереди обе руки, к удивлению Праджни, ополоснул рот и, сняв кожаные туфли, ступил внутрь чайного домика.