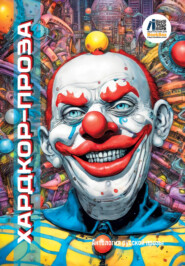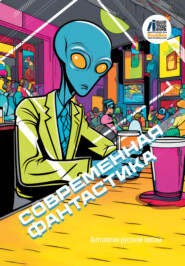По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В доме на берегу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь Кусуноки Иккю почтительно задвинул «нормальный вход» и вновь открыл лаз-надзиригути. Праджня поискала взглядом, нет ли вокруг кого, кто полезет перед ней. Кусуноки Иккю делал ей многозначительные взгляды. Она ради наставника повторила водную процедуру Тоётоми Котаро и аккуратно влезла внутрь. Продвинувшись на коленках в комнату, она все-таки встала, оценив, как естественно, без всякого напряжения Котаро рассматривает изображение Будды Амиды. Неожиданно для себя она почувствовала осень – красивое и холодное время, настоянное на предснежном затишье. Мысли успокоились и остыли. Стало слышно, как падают беспокойные листья в саду. Падают листья.
Самурай сел на колени возле токонома. Праджня не осмелилась сесть рядом с ним и упала туда, откуда снова смогла бы любоваться его игрой на сямисэне.
Появился хозяин. Он вызволил из вспомогательной комнатки служанку. – О, сколь странно оказалось ее появление – улыбка Котаро взыграла на его лице – ни тени, ни облачка не могло возникнуть Осенью при произнесении сценического имени девушки с мужской прической, в черно-золотом кимоно с хризантемами. Листья перестали на миг падать в саду.
– Этот мужчина актер театра Но, – представил Кунусоки Иккю жизнерадостную служанку. – Он имеет право так двигаться и ходить, играя женские роли. С недавнего времени он мой ученик. Скоро он оставит театр и…
Котаро улыбнулся:
– Разумеется, оставит, он же – не я. Мой удел – интересы страны. Я самый плохой из ваших учеников, наставник!
– Сегодня у нас неформальное чаепитие, – пояснил Кусоноки Иккю. – Я попробую немного обучить мою новую ученицу готовить бульон и три блюда и, конечно, густой чай. Впрочем, бульон почти готов, и три блюда почти готовы. Подавать все будут ее руки…
Праджня уступила место ученику-актеру и с трепетом пошла узнавать скрытую комнатку, давно занимавшую ее воображение. Готовить ей действительно не пришлось. Без неё исполнилась церемония первого угля. Оставались сложнейшие движения и действия при подаче блюд. Ей пришлось подавать под руководством Кусоноки Иккю бульон с жареным рисом, подогретую рисовую водку, сырую рыбу и квашеные бобы, салат и даже сладости. Непосредственно чашки и чай оказались столь далеки от своего появления, что наставник велел ей отдохнуть и помыть посуду. Мытье посуды стало настоящим отдохновением, ибо тут он дал ей волю мыть и выть и просто мыть без малейших указаний. Наконец дорогие гости должны были отдохнуть, прогуливаясь по саду, а Праджня превратилась в такую служанку, какой не была в монастыре. Она открывала окна, вытряхала, подметала, сворачивала, убирала…
Вечером Котаро официально провожал ее в богатый дом, купленный, как выяснилось, на имя Кусуноки Иккю. Горные цветы были высажены во внутреннем садике ее дома, куда она попросила ее проводить. Котаро позволил ей опереться на свою руку и, подводя итог дня, довел ее до сооружения из камней. В кучку камней оказалось вставлено маленькое, привезенное из России деревянное распятие.
– Сегодня мне хочется зажечь свечу о матушке Екатерине! – сказала Прасковья.
Котаро вытащил из рукава кимоно тоненькую ароматную свечку.
– Зажги и вторую – о своей матушке – самозабвенно! – озадачил он.
Глава третья. Мидори из квартала Гион
Зимние недели текли с особым ароматом. Облачаясь с помощью терпеливой служанки из внешней росистой земли в два утепленных кимоно, она училась их носить и ходить в гэта. Ей удобно было слегка наклоняться вперед при требующем проворства движении. Более полюбились ей деревянный башмаки, а в нижнее белье она зарывалась подобно шелковичному червю, дарящему себе еще прокладочку в виде шелка-сырца – между тканью и подкладкой кимоно. Назвавший Праджню своей невестой подарил ей зонт от непогоды.
Снег выпал. Он лежал на темно-зеленой листве камфорных деревьев, на слегка помятой хурме голых веток, далеких от уродства совершенного, на треугольничках-лапках гинко, обязательно – на загнутых вверх крышах храмов и горах, – а последнее элементарно составляло главное обрамление Кёото. Крыши храмов и горы были вездесущим напоминанием о необходимости просветления. Напоминание само уже являлось началом, и концом, и серединой всего, что заставило бы позабыть о «необходимости» – просто жить. Но однажды в иероглифе токонома Чайного домика появилось предупреждение древнего Васубандху. Праджня узнала о смысле, ведь русские гости изволили обсудить его вместе с мастером чайной церемонии: если хотя бы два элемента бытия останутся неизученными, круговорот особенных явлений принесет страдание. Праджне стало грустно. Страдание началось для нее с этих самых слов. Отныне любое ее мгновение сгущало гнет непознанных элементов бытия – огромного количества зеленых гусениц и бабочек, умирающих зимой от невозможности ничего познать. А надо ли стремиться? – задумывалась она и возвращалась к трупикам насекомых и упавшим замертво птицам…
Кусуноки Иккю не предлагал ей заниматься медитацией, продолжая учить хорошим манерам и пониманию вкуса. Вкус спелого мандарина сладок. Но люди напрасно избегают горечи, иногда полезной и напоминающей чайный напиток. Стоит перестать избегать чего-либо, и вкус очистится, станет более глубоким, нецепляющим и нецепляющимся – светло-темным-другим, без единства и дуальности. Вкус дзен. Вкус росы. Вкус дзен. Сгущенный океан…
Однажды она ощутила океан в себе. Она вышла из дома и пошла, на высоких гэта, прикрываясь только зонтиком – в снегопад и движение невидимых небес. В снегопад. Ей очень хотелось побыть одной на улицах заброшенного города. Она забрела на высокую когда-то веранду высокого когда-то храма, возвышающегося над целой страной. Она поняла, что самым важным в ее жизни является забвение. Маленькими насекомыми внизу шевелились людишки в кимоно и крестьянских шляпах – огромнейших, типа тех, что носят рикши. Удар гонга часто совпадал с продолжением чайной службы. Но все правила существуют для того, чтобы их нарушать. Она спрыгнула с большой веранды вниз и замерла на снегу. Соломенные шляпы не видели ее и не слышали.
Увидел Тоётоми Мунэхару. Преодолевая долгую звездную ночь, он принес Прасковью-Праджню в домик своей подруги в квартале Гион. Она выплыла к нему в ярком кимоно незамужней женщины, в полном лунном свете белил узкого лица.
– О-о! Новая жертва твоего братца и его крестного. Пора им делать харакири.
– Замолчи, Мидори! – грубо оборвал он. – Мой брат святой. Он ничего не знает о судьбе твоей племянницы, и не смей ему рассказывать, иначе я убью тебя. Будь не гейшей, а врачом. Будь доброй, в конце концов!
Мидори шутовски ударила себя по лицу. Ее шаловливые глаза искрились снегом.
– Еще чего! Сам с ней возись. Я даже ресторан не стану закрывать.
– Хорошо! Просто разреши ей здесь отлежаться, а я схожу за врачом.
Мидори снова ударила себя по лицу. Ее глаза прояснели. Искрившийся снег оказался теплым саке. Ловко выхватив из рук Мунэхару ледяную, едва ли способную к дыханию девчонку, она с опытом истекающих молоком кормилиц увлекала большое дитя в космос терзаемого линейным сказом под барабанчики, флейту и сямисэн дома. Поднимаясь четверти на две вверх, она чуть было не упала с ношей, но Мунэхару подхватил их обеих и, освободив ступни в теплых носках от европейской обуви, поднялся на пол комнаты, устланный татами. Вокруг царил дзен. В глубине, за ширмами, целый ансамбль актеров театра но исполнял к удовольствию гейш замысловатую партию из свежего спектакля. Не обращая ни на кого внимания, он привычно выбрался на балкон, а с балкона перекинулся на веранду соседнего дома – в личные покои Мидори.
С опытом боевого командира осмотрел, насколько позволяли кимоно, обеих. Мидори была просто пьяна и, утонув в матрасе королевской кровати, сладко засопела. Прасковья-Праджня лежала рядом с ней словно младшая сестренка – такая же бледная и лунная, с узким лицом, стрелочками черных бровей и аккуратным носом. Она восхитительно крепко спала. «Неужели она спит? – дивился Мунэхару. – Сигануть с храма, чтобы уснуть? Вот пиявка! А я-то перепугался!»
Мунэхару поискал в доме саке, ничего не нашел, выругался и отправился обратно в ресторан – на яркие незабвенные звуки музыки, преодолевая те же скромные препятствия. Изрядно выпив, он помчался будить врача и притащил его под утро в объятия Мидори. Собственно, Мунэхару уронил врача на кровать, упав на него сам, будучи не в состоянии уже бороться со сном. Мидори вскрикнула и проснулась. Незнакомый ей мужчина лежал поперек кровати, придавив ее колени, напрасно силясь подняться; что-то снизу фатально удерживало его; найти опору для рывка он не мог, боясь навредить второй девушке – тихой и неподвижной. Однако всем телом он почувствовал ее ровное, не удивленное происходящим дыхание.
Увидев себя в своей кровати, Мидори быстро успокоилась и начала действовать. Ее рука безжалостно вцепилась в редкие волосы на круглой голове, пропуская сквозь пальцы воротничок нижнего белья и воротник кимоно. Несчастный доктор не выдержал и рванул свой торс с кровати, не чуя под собой живых людей.
Женщина вскочила кошкой на пол и, не обращая внимания на спящего возле кровати охраняющего ее Мунэхару, выдворила-таки не сильно сопротивлявшегося лекаря на раскисшую, таявшую, бегущую ручьем улицу (от вчерашнего снегопада след давно простыл); спокойно выпила из стоящего на остывшей жаровне чайника ледяной воды и пошла раздвинуть двери во внутренний сад, где находилась уборная.
От утреннего воздуха или чего еще Мунэхару поежился, нащупал сползающую на его лицо с кровати пяту одеяла и, не понимая, почему он неприкаянно лежит возле знакомой кровати, с усилием на нее забрался. Когда Мидори вернулась из уборной, она увидела своего любимого преданно обнимающим незнакомую девушку. Казалось, скорая на расправу, она расправится со всеми. И действительно, она придумала план мести. Прекрасно зная строгий нрав главного для Мунэхару человека, она привела себя в порядок и незамедлительно вышла из дома. Огромных трудов ей стоило уговорить молоденькую девушку прийти вместе со служанкой в квартал Гион.
Дочери Мунэхару всего шестнадцать, а девушке в объятиях ее отца гораздо меньше. Мунэхару открывает глаза и видит сквозь разрозненные слова встревоженное, все в дымке печальной жертвенности, лицо дочери:
– Отец! Вы должны жениться на этой девочке! Если Вы этого не сделаете, я спрыгну с самого высокого храма в Тоокёо.
Мунэхару закрывает глаза. Он медленно прокручивает всю канву последних часов у себя в голове. Этот прыжок Прасковьи-Праджни, словно соломинки, не ужившейся в букете цветов своего кимоно, этот сломанный розовый зонт в глубоком снегу…
– Ваш отец совратил невесту своего брата! – торжествующе ровно произнесла Мидори.
Мунэхару вновь открывает глаза. Его рука по-прежнему прижимает к груди оттаявшее под кимоно, но совсем не взволнованное сердце ребенка. Ладошка Прасковьи сжата второй его рукой.
Дочь склоняется над уткнувшейся узким личиком в правую щеку отца девочкой. Его сильное объятие по-прежнему приподнимает вместо подушки ее шею.
– Дядина невеста? – повторяет дочь. – Она умерла?
Мунэхару отпускает Прасковью, высвобождаясь; в его глазах глубокий туман.
– Она жива, – безучастно к происходящему говорит он.
– Отец, вы женитесь, если он разрешит, а если не разрешит, я… поступлю как дочь самурая.
– Обычно легче жениться, чем объяснять, но не теперь, – с достоинством отвечает Мунэхару.
Дочь выходит. За ней служанка. Мунэхару колдует над Прасковьей, боясь непочтительно взять ее на руки.
– Подожди! – взволнованно шепчет Мидори. – Я разрешаю оставить ее здесь.
Мунэхару подхватывает соломинку в кимоно и безучастно шествует с ней к выходу. Мидори становится на колени и раздвигает им двери, кланяясь на прощание.
С тех пор, как Праджня стала чьей-то ношей, сгорело много масла в фонарях. Прогалины с цветами согрелись от солнечных фонарей в лесах по соседству. От Котаро не было никаких известий. Армейское руководство сообщило: пропал без вести на Формозе, в краю людоедов; и Мунэхару решил, что он сам отвечает за судьбу этой девочки. Кусуноки Иккю было приказано не вмешиваться, иначе пожалеет. Мидори мечтала проведать ее, чувствуя на сердце необъяснимый увесистый камень. Но более всего она тосковала по своему возлюбленному. Как-то само собой складывалось при общем одобрении, что Мунэхару ухаживает за больной невестой. Летаргический сон слыл необычайной редкостью для врачей и монахов. Все они готовы были выстроиться в очередь, чтобы увидеть чудо. Они наперебой предлагали свои средства для пробуждения, и Мунэхару, овеянный дымкой людского почитания Праджни, словно благословенной Богом древних суеверий Японии, влюбился в нее, как какой-нибудь дуралей поэт – Блок или Андрей Белый, Петрарка или Данте – в свою Прекрасную Даму. Он уже подумывал о несвойственных ему планах женитьбы, о долгих летах жизни, но рассказал дочери о собственной непричастности к чуду летаргического сна.
– Отец! Вы не можете жениться в таком случае, – рассудила она.
И храбрый Мунэхару прозрел. Он полностью раскаялся в своих мыслях и поехал к Мидори – праздновать начало новой-старой жизни. Когда она увидела самурая вернувшимся и не разрубившим ее на куски, сердце ее еще сильнее сжалось от жалости к русской девочке. «Во что бы то ни стало я ей помогу!» – сказала она себе. Женское чутье ей подсказывало наведаться в чайный домик. «Там, там ее карма!» – твердила она, проходя во внешнюю росистую землю.
– Она такая же как мы. Она просто слуга, – сплетничали слуги.
Прикрыв глаза, Мидори уставилась на них завесом век:
– А ну, расскажите мне, я вам заплачу…
– Если бы мы знали, госпожа. Но мы не знаем. Мы думаем, девочка сбежала от наказания, но оно ее настигло.
Самурай сел на колени возле токонома. Праджня не осмелилась сесть рядом с ним и упала туда, откуда снова смогла бы любоваться его игрой на сямисэне.
Появился хозяин. Он вызволил из вспомогательной комнатки служанку. – О, сколь странно оказалось ее появление – улыбка Котаро взыграла на его лице – ни тени, ни облачка не могло возникнуть Осенью при произнесении сценического имени девушки с мужской прической, в черно-золотом кимоно с хризантемами. Листья перестали на миг падать в саду.
– Этот мужчина актер театра Но, – представил Кунусоки Иккю жизнерадостную служанку. – Он имеет право так двигаться и ходить, играя женские роли. С недавнего времени он мой ученик. Скоро он оставит театр и…
Котаро улыбнулся:
– Разумеется, оставит, он же – не я. Мой удел – интересы страны. Я самый плохой из ваших учеников, наставник!
– Сегодня у нас неформальное чаепитие, – пояснил Кусоноки Иккю. – Я попробую немного обучить мою новую ученицу готовить бульон и три блюда и, конечно, густой чай. Впрочем, бульон почти готов, и три блюда почти готовы. Подавать все будут ее руки…
Праджня уступила место ученику-актеру и с трепетом пошла узнавать скрытую комнатку, давно занимавшую ее воображение. Готовить ей действительно не пришлось. Без неё исполнилась церемония первого угля. Оставались сложнейшие движения и действия при подаче блюд. Ей пришлось подавать под руководством Кусоноки Иккю бульон с жареным рисом, подогретую рисовую водку, сырую рыбу и квашеные бобы, салат и даже сладости. Непосредственно чашки и чай оказались столь далеки от своего появления, что наставник велел ей отдохнуть и помыть посуду. Мытье посуды стало настоящим отдохновением, ибо тут он дал ей волю мыть и выть и просто мыть без малейших указаний. Наконец дорогие гости должны были отдохнуть, прогуливаясь по саду, а Праджня превратилась в такую служанку, какой не была в монастыре. Она открывала окна, вытряхала, подметала, сворачивала, убирала…
Вечером Котаро официально провожал ее в богатый дом, купленный, как выяснилось, на имя Кусуноки Иккю. Горные цветы были высажены во внутреннем садике ее дома, куда она попросила ее проводить. Котаро позволил ей опереться на свою руку и, подводя итог дня, довел ее до сооружения из камней. В кучку камней оказалось вставлено маленькое, привезенное из России деревянное распятие.
– Сегодня мне хочется зажечь свечу о матушке Екатерине! – сказала Прасковья.
Котаро вытащил из рукава кимоно тоненькую ароматную свечку.
– Зажги и вторую – о своей матушке – самозабвенно! – озадачил он.
Глава третья. Мидори из квартала Гион
Зимние недели текли с особым ароматом. Облачаясь с помощью терпеливой служанки из внешней росистой земли в два утепленных кимоно, она училась их носить и ходить в гэта. Ей удобно было слегка наклоняться вперед при требующем проворства движении. Более полюбились ей деревянный башмаки, а в нижнее белье она зарывалась подобно шелковичному червю, дарящему себе еще прокладочку в виде шелка-сырца – между тканью и подкладкой кимоно. Назвавший Праджню своей невестой подарил ей зонт от непогоды.
Снег выпал. Он лежал на темно-зеленой листве камфорных деревьев, на слегка помятой хурме голых веток, далеких от уродства совершенного, на треугольничках-лапках гинко, обязательно – на загнутых вверх крышах храмов и горах, – а последнее элементарно составляло главное обрамление Кёото. Крыши храмов и горы были вездесущим напоминанием о необходимости просветления. Напоминание само уже являлось началом, и концом, и серединой всего, что заставило бы позабыть о «необходимости» – просто жить. Но однажды в иероглифе токонома Чайного домика появилось предупреждение древнего Васубандху. Праджня узнала о смысле, ведь русские гости изволили обсудить его вместе с мастером чайной церемонии: если хотя бы два элемента бытия останутся неизученными, круговорот особенных явлений принесет страдание. Праджне стало грустно. Страдание началось для нее с этих самых слов. Отныне любое ее мгновение сгущало гнет непознанных элементов бытия – огромного количества зеленых гусениц и бабочек, умирающих зимой от невозможности ничего познать. А надо ли стремиться? – задумывалась она и возвращалась к трупикам насекомых и упавшим замертво птицам…
Кусуноки Иккю не предлагал ей заниматься медитацией, продолжая учить хорошим манерам и пониманию вкуса. Вкус спелого мандарина сладок. Но люди напрасно избегают горечи, иногда полезной и напоминающей чайный напиток. Стоит перестать избегать чего-либо, и вкус очистится, станет более глубоким, нецепляющим и нецепляющимся – светло-темным-другим, без единства и дуальности. Вкус дзен. Вкус росы. Вкус дзен. Сгущенный океан…
Однажды она ощутила океан в себе. Она вышла из дома и пошла, на высоких гэта, прикрываясь только зонтиком – в снегопад и движение невидимых небес. В снегопад. Ей очень хотелось побыть одной на улицах заброшенного города. Она забрела на высокую когда-то веранду высокого когда-то храма, возвышающегося над целой страной. Она поняла, что самым важным в ее жизни является забвение. Маленькими насекомыми внизу шевелились людишки в кимоно и крестьянских шляпах – огромнейших, типа тех, что носят рикши. Удар гонга часто совпадал с продолжением чайной службы. Но все правила существуют для того, чтобы их нарушать. Она спрыгнула с большой веранды вниз и замерла на снегу. Соломенные шляпы не видели ее и не слышали.
Увидел Тоётоми Мунэхару. Преодолевая долгую звездную ночь, он принес Прасковью-Праджню в домик своей подруги в квартале Гион. Она выплыла к нему в ярком кимоно незамужней женщины, в полном лунном свете белил узкого лица.
– О-о! Новая жертва твоего братца и его крестного. Пора им делать харакири.
– Замолчи, Мидори! – грубо оборвал он. – Мой брат святой. Он ничего не знает о судьбе твоей племянницы, и не смей ему рассказывать, иначе я убью тебя. Будь не гейшей, а врачом. Будь доброй, в конце концов!
Мидори шутовски ударила себя по лицу. Ее шаловливые глаза искрились снегом.
– Еще чего! Сам с ней возись. Я даже ресторан не стану закрывать.
– Хорошо! Просто разреши ей здесь отлежаться, а я схожу за врачом.
Мидори снова ударила себя по лицу. Ее глаза прояснели. Искрившийся снег оказался теплым саке. Ловко выхватив из рук Мунэхару ледяную, едва ли способную к дыханию девчонку, она с опытом истекающих молоком кормилиц увлекала большое дитя в космос терзаемого линейным сказом под барабанчики, флейту и сямисэн дома. Поднимаясь четверти на две вверх, она чуть было не упала с ношей, но Мунэхару подхватил их обеих и, освободив ступни в теплых носках от европейской обуви, поднялся на пол комнаты, устланный татами. Вокруг царил дзен. В глубине, за ширмами, целый ансамбль актеров театра но исполнял к удовольствию гейш замысловатую партию из свежего спектакля. Не обращая ни на кого внимания, он привычно выбрался на балкон, а с балкона перекинулся на веранду соседнего дома – в личные покои Мидори.
С опытом боевого командира осмотрел, насколько позволяли кимоно, обеих. Мидори была просто пьяна и, утонув в матрасе королевской кровати, сладко засопела. Прасковья-Праджня лежала рядом с ней словно младшая сестренка – такая же бледная и лунная, с узким лицом, стрелочками черных бровей и аккуратным носом. Она восхитительно крепко спала. «Неужели она спит? – дивился Мунэхару. – Сигануть с храма, чтобы уснуть? Вот пиявка! А я-то перепугался!»
Мунэхару поискал в доме саке, ничего не нашел, выругался и отправился обратно в ресторан – на яркие незабвенные звуки музыки, преодолевая те же скромные препятствия. Изрядно выпив, он помчался будить врача и притащил его под утро в объятия Мидори. Собственно, Мунэхару уронил врача на кровать, упав на него сам, будучи не в состоянии уже бороться со сном. Мидори вскрикнула и проснулась. Незнакомый ей мужчина лежал поперек кровати, придавив ее колени, напрасно силясь подняться; что-то снизу фатально удерживало его; найти опору для рывка он не мог, боясь навредить второй девушке – тихой и неподвижной. Однако всем телом он почувствовал ее ровное, не удивленное происходящим дыхание.
Увидев себя в своей кровати, Мидори быстро успокоилась и начала действовать. Ее рука безжалостно вцепилась в редкие волосы на круглой голове, пропуская сквозь пальцы воротничок нижнего белья и воротник кимоно. Несчастный доктор не выдержал и рванул свой торс с кровати, не чуя под собой живых людей.
Женщина вскочила кошкой на пол и, не обращая внимания на спящего возле кровати охраняющего ее Мунэхару, выдворила-таки не сильно сопротивлявшегося лекаря на раскисшую, таявшую, бегущую ручьем улицу (от вчерашнего снегопада след давно простыл); спокойно выпила из стоящего на остывшей жаровне чайника ледяной воды и пошла раздвинуть двери во внутренний сад, где находилась уборная.
От утреннего воздуха или чего еще Мунэхару поежился, нащупал сползающую на его лицо с кровати пяту одеяла и, не понимая, почему он неприкаянно лежит возле знакомой кровати, с усилием на нее забрался. Когда Мидори вернулась из уборной, она увидела своего любимого преданно обнимающим незнакомую девушку. Казалось, скорая на расправу, она расправится со всеми. И действительно, она придумала план мести. Прекрасно зная строгий нрав главного для Мунэхару человека, она привела себя в порядок и незамедлительно вышла из дома. Огромных трудов ей стоило уговорить молоденькую девушку прийти вместе со служанкой в квартал Гион.
Дочери Мунэхару всего шестнадцать, а девушке в объятиях ее отца гораздо меньше. Мунэхару открывает глаза и видит сквозь разрозненные слова встревоженное, все в дымке печальной жертвенности, лицо дочери:
– Отец! Вы должны жениться на этой девочке! Если Вы этого не сделаете, я спрыгну с самого высокого храма в Тоокёо.
Мунэхару закрывает глаза. Он медленно прокручивает всю канву последних часов у себя в голове. Этот прыжок Прасковьи-Праджни, словно соломинки, не ужившейся в букете цветов своего кимоно, этот сломанный розовый зонт в глубоком снегу…
– Ваш отец совратил невесту своего брата! – торжествующе ровно произнесла Мидори.
Мунэхару вновь открывает глаза. Его рука по-прежнему прижимает к груди оттаявшее под кимоно, но совсем не взволнованное сердце ребенка. Ладошка Прасковьи сжата второй его рукой.
Дочь склоняется над уткнувшейся узким личиком в правую щеку отца девочкой. Его сильное объятие по-прежнему приподнимает вместо подушки ее шею.
– Дядина невеста? – повторяет дочь. – Она умерла?
Мунэхару отпускает Прасковью, высвобождаясь; в его глазах глубокий туман.
– Она жива, – безучастно к происходящему говорит он.
– Отец, вы женитесь, если он разрешит, а если не разрешит, я… поступлю как дочь самурая.
– Обычно легче жениться, чем объяснять, но не теперь, – с достоинством отвечает Мунэхару.
Дочь выходит. За ней служанка. Мунэхару колдует над Прасковьей, боясь непочтительно взять ее на руки.
– Подожди! – взволнованно шепчет Мидори. – Я разрешаю оставить ее здесь.
Мунэхару подхватывает соломинку в кимоно и безучастно шествует с ней к выходу. Мидори становится на колени и раздвигает им двери, кланяясь на прощание.
С тех пор, как Праджня стала чьей-то ношей, сгорело много масла в фонарях. Прогалины с цветами согрелись от солнечных фонарей в лесах по соседству. От Котаро не было никаких известий. Армейское руководство сообщило: пропал без вести на Формозе, в краю людоедов; и Мунэхару решил, что он сам отвечает за судьбу этой девочки. Кусуноки Иккю было приказано не вмешиваться, иначе пожалеет. Мидори мечтала проведать ее, чувствуя на сердце необъяснимый увесистый камень. Но более всего она тосковала по своему возлюбленному. Как-то само собой складывалось при общем одобрении, что Мунэхару ухаживает за больной невестой. Летаргический сон слыл необычайной редкостью для врачей и монахов. Все они готовы были выстроиться в очередь, чтобы увидеть чудо. Они наперебой предлагали свои средства для пробуждения, и Мунэхару, овеянный дымкой людского почитания Праджни, словно благословенной Богом древних суеверий Японии, влюбился в нее, как какой-нибудь дуралей поэт – Блок или Андрей Белый, Петрарка или Данте – в свою Прекрасную Даму. Он уже подумывал о несвойственных ему планах женитьбы, о долгих летах жизни, но рассказал дочери о собственной непричастности к чуду летаргического сна.
– Отец! Вы не можете жениться в таком случае, – рассудила она.
И храбрый Мунэхару прозрел. Он полностью раскаялся в своих мыслях и поехал к Мидори – праздновать начало новой-старой жизни. Когда она увидела самурая вернувшимся и не разрубившим ее на куски, сердце ее еще сильнее сжалось от жалости к русской девочке. «Во что бы то ни стало я ей помогу!» – сказала она себе. Женское чутье ей подсказывало наведаться в чайный домик. «Там, там ее карма!» – твердила она, проходя во внешнюю росистую землю.
– Она такая же как мы. Она просто слуга, – сплетничали слуги.
Прикрыв глаза, Мидори уставилась на них завесом век:
– А ну, расскажите мне, я вам заплачу…
– Если бы мы знали, госпожа. Но мы не знаем. Мы думаем, девочка сбежала от наказания, но оно ее настигло.