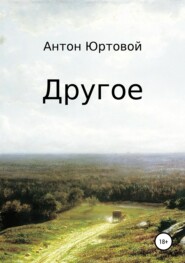По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возможно, имелся в виду кто-то из шахтёров, теперешних или бывших жильцов общежития, кто-то ещё. С тем я и готов был уйти и, уже попрощавшись, ступил к выходу. Дежурившую, казалось, это устраивало к лучшему. Насторожённость ко мне сошла с неё. Голосом, где различалась лояльная нота, дежурившая догнала меня:
– А вы не следователь?
Я сказал, что нет.
Женщина извинилась.
– Нас до сих пор не оставляют в покое. Всех подряд. Вызывали, допрашивали не по одному разу. И, наверное, ещё не раз вызовут. И сюда заходят. Поймите – такое случилось.
– Да, хорошо вас понимаю и сочувствую вам, – сказал я и попрощался ещё раз.
Что я мог ещё говорить? Она вправе не верить мне. Но, собственно, какое всё это имело уже значение? И чего я хотел? Разобраться? В чём? Роль, которую я машинально себе назначил исходя из обстоятельства, трогавшего меня, должна кому угодно, а также и мне самому казаться не вполне уместной, если не вообще пустой. Как я этого не заметил?
Одёрнув себя таким образом, я всё же не переставал ощущать некую потребность дальнейшего расследования. Мысль об этом упорно вздёргивалась, царапая сознание. Ей нужно было непременно выйти оттуда. Но в какую сторону?
Из этого вопроса неожиданно возникал другой: из-за чего я потащился в знакомый для меня общий дом? Не забыл же я, что в посёлке несколько шахтёрских общежитий. Обойти их все, а то ещё и последнее жилище умершего художника, заняться расспросами? Но была ли тут вероятность узнать хоть что-нибудь сверх уже знаемого? И что существенного?
Был поздний вечер. Моя командировка заканчивалась. Предстояло ещё добраться до станции, успеть на свой поезд. Он проходил ровно в полночь.
В тот раз тем и прервалось моё недолгое пребывание в посёлке. Но никак не потухали напряжённые раздумья. Сходный сюжет картин. Бедственная судьба человека с профессией коногона. Когда-то, очень давно, ещё в детские годы с такими людьми я общался, и с одним из них было у меня даже что-то вроде недолгой дружбы. Никакой связи с тем, чему я стал свидетелем теперь, в течение последнего дня, не обнаруживалось. И всё-таки – не мистика же с повторением сюжета? Мнилось, будто я имею к нему какое-то непосредственное персональное отношение. Что могло это значить?
И тут я вспомнил о Кересе. Ну да. Я ему всё расскажу. Ему обязательно должно быть интересно.
И я сразу почувствовал, что в большей мере ситуация уже как бы разрешилась. Останется вглядеться в детали, расставить акценты.
Как, однако, сложно бывает иногда заполучить то, что кажется едва ли не зримым, лежащим рядом. То, о чём я сейчас говорю, пришло ко мне только многие годы спустя. И то в большей части не впрямую от Кереса. Я уже пояснял, каким ограниченным было наше с ним общение в пределах вечной разлуки. Я не мог в подробностях обговорить загадку ни в телефонном сеансе, ни в телеграмме. Имело смысл только полное изложение дела. Какое-то время я с этим ещё тянул и в конце концов написал обстоятельное письмо другу. Уже, к сожалению, в ту пору, когда наша переписка с ним да и в целом наше общение окончательно сходили на нет.
На письмо он не ответил, но какое-то время после по телефону на мой вопрос, получено ли оно, сказал, что да и что он собирается прислать мне своё, только не будет торопиться, поскольку надо многое вспомнить, не напутать, чтобы всё, то есть, как на духу.
Ещё немного позже на мои упрёки, что обещанное не исполнено, Керес отвечал, что ничего не забыл, письмо ещё пишется, лежит у него на столе, но как-то хотелось получше оформить его окончательно. «Очень для меня любопытно», – заметил он деловито и определённо подчёркнуто, и было очевидно, что он хорошо осознавал важность и моего запроса, и своего ответа на него. И тут же ушёл от темы, предпочтя, как то обычно бывало, разговор «ни о чём».
По тону, в каком протекала эта наша беседа по телефону, никак не следовало, что Керес просто уклоняется, по какой-то причине медлит и не желает доходить до точки. И я продолжал надеяться, больше ни разу не напомнив ему ни об его неотправленном письме, ни о том нашем разговоре.
Будучи по делам в Риме, где в предместье для Кереса протекали его самые последние дни, я посетил его могилу. На неё уже была положена стандартная плита. С краю над нею стояло приземистое каменное надгробье, ничем не отличавшееся от расположенных на других могилах. Отгравированный фотопортрет; надписи на русском и на латыни. Ничего лишнего. Ни намёка на какое-либо признание. Ни слова о заслугах или хотя бы о том, что усопший – художник.
– Так он завещал, – сообщила мне его жена Ольга Васильевна, сопровождавшая меня.
Я кое-что знал об этой уже немолодой по тому времени женщине. Керес женился на ней ещё обучаясь в вузе, когда и встретил её впервые. Она была питерской уроженкой, работала методисткой в альма-матер, где учился Керес, и, в отличие от него, за границу на постоянное жительство уехала не вместе с ним, а гораздо позже. Детей у них не было.
Она прекрасно знала о его внебрачных сыне и дочери от разных женщин в Бельгии и в Австралии. Керес от неё этого не скрывал и даже рассказывал ей некоторые новости о чуждой для неё засемейной сфере, причём не об одних детях, но и женщинах, их матерях, а также и отчимах, с которыми был знаком и временами виделся на короткой ноге: они значились его коллегами по ремеслу.
Дети, уже оба взрослые, иногда появлялись в городах и на курортах, где Керес проживал с женой или задерживался по каким-то делам.
Не претендуя на полную женскую гегемонию в этой игре, Ольга Васильевна хотя поначалу и пробовала открыто выражать супругу свои оскорблённые чувства, но постепенно оставила это занятие, стихла, смирилась. В таком состоянии она в наибольшей, кажется, мере устраивала мужа, чем и уравновешивалась их долговременная, хотя и часто прерывавшаяся связь. Отлучки происходили чаще со стороны Кереса, подгоняемого разного рода коммерческими контрактами; но иногда и супруга позволяла себе, что называется, отдохнуть от брачной обыденности, выезжая на родину или в другую страну…
Скорби уже заканчивался двухгодовой срок. Было видно, что вдова ещё не оправилась от потери и основательно этим подавлена. В её благолепной и пока что не напрочь остаревшей фигуре, в чертах строго ухоженного лица, в зрачках глаз трепетали усталость и угнетавшее, сумрачное смятение. Да ещё немного – устыжённой виноватости, как то становится приметным в любой женщине, испытавшей утрату мужчины-супруга, но не перестающей быть женщиной.
Трудно было перейти с нею от скорбных и общих фраз на что-то другое. Мне между тем следовало воспользоваться случаем. Она опередила меня сама. Робко, но доверительно заговорила сначала о подробностях похорон и облагорожении могилы, а потом и о самом Кересе, которого, как выходило из её слов, она очень любила и продолжала любить.
«Мы вместе прожили хорошо и счастливо». – В течение нашей встречи на погосте она несколько раз и вполне уместно произнесла эту, очевидно, успокоительную для неё фразу, так что мне только и оставалось что отдать ей должное за её верность и преданность мужу, моему другу – как до, так и по его кончине.
– Мадам! – услышал я неожиданно со спины обращение к ней, когда мы вдвоём уже отходили от могильных рядов и, миновав небольшие низенькие решётчатые воротца кладбища, направились к проезжей магистрали, чтобы взять такси.
Мы оба оглянулись.
– Извиняюсь… Я вынужден… Я – Борджони… Из Падуи… – слова на итальянском сыпались лопочущей, громкой, почти простонародной скороговоркой.
К нам быстро приблизился человек в сером сезонном плаще, в мягкой серой шляпе, в тусклооранжевом кашне. Стройность, несколько рыхлая; рост выше среднего. На ногах лакированные туфли. Глубоко в переносицу всажены очки в роговой оправе. На лице и во взгляде учтивое и устопорённое ожидание, характерное для итальянцев, усвоивших стиль безукоризненного следования правилам делового общения в интересах своего босса.
«Корпоратор или служащий банка», – предположил я, досадуя, что с его появлением прервалась важная для меня беседа, и рассеянно разглядывая то его, то оставшиеся позади от нас предметы и виды кладбищенского обустройства.
Судя по всему, человек не решался говорить при мне.
– Что вам угодно? – строго и удивлённо спросила его Ольга Васильевна, слегка сузив глаза, давая этим понять, что человек ей незнаком. В интонации её голоса я, однако, почувствовал некоторую скрытность и осторожность. – Ах да… – словно спохватилась она. И уже ровно, спокойно: – Вы… от..
– Именно… Его предложение о…
– Да, я помню.
– Ставка повышена.
– Хорошо. Я подумаю.
– Что же – сказать?
– Я подумаю.
– Но, мадам!
– Так и скажите. А сейчас я занята. И не к месту… Видите?.. – Она слегка повела рукой от себя, показывая, что говорит и обо мне, и о нашем с ней посещении погоста. – Прошу извинить…
– Мадам!
– Найдите меня. Так, через месяц…
– Помилуйте! Уже в третий…
– И – что же? – Ольга Васильевна, не дав человеку договорить, смотрела на него хмурясь и чуточку исподлобья. – До свиданья! – бросила она, резко отстраняясь по направлению к шумевшей автомобилями магистрали и стараясь не обнаруживать своей холодности…
Человек отошёл.
«Корпоратор или служащий банка», – опять почему-то лезло мне в голову первоначальное предположение о его статусе.
Скоро мы уже ехали в одном такси. Я добирался в римскую гостиницу, Ольге Васильевне было по пути, и она вышла около своего дома. По дороге мы успели обменяться с ней ещё несколькими фразами.
Я обрадовался приглашению посетить её дома. «Наверняка узнаю кое-что о Кересе нового», – сразу подумалось мне, и тут же надежда на это в немногом, но уже подтвердилась. «Кое-что вам покажу из оставленного им», – сказала вдова.
И ровно к назначенному часу я уже был на месте.