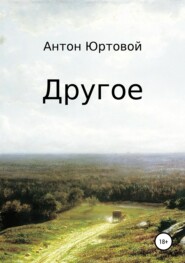По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– То от неё бы и танцевал, так? – прервал он мою фразу, которую я не совсем знал как закончить.
Мы отошли от дома, выделывали разные зигзаги по запылённым обочинам дороги, по самой дороге, по ближним пустовьям. Напряжённо взглядывал я на объект собственной надежды и чувствовал: Кересу уже становится неинтересно. Он машинально щёлкал фотоаппаратом, как-то безразлично высчитывал остающиеся неотснятыми кадры плёнки. По моей прикидке, им уже наступил конец. Видимо, и Керес больше ни на что не рассчитывал. Что-то во мне обрывалось и куда-то падало вместе со мной.
Взамен отложенной в уме прекрасной цельной панорамы стали появляться вовсе ей не присущие путающие фракции: буроватости, искосы в размерах, какой-то сажный привкус…
На пологом уклоне, поднимаясь к месту, где мы застряли в поиске и где цель окончательно истаивала в содержании, медленно и тяжело урчал грузовик-шасси с маршевыми стальными трубами внушительного диаметра, одним краем уложенные на прицепе. В обгон спешила стайка подростков велогонщиков.
Как раз был момент, когда и поезд, и его сопутчики вместе попадали в панорамный облог. Они проплыли мимо и уже удалялись, протаскивая за собой черноватый выхлопной шлейф.
Ещё миг, и всё вместе закрыли собою и своим неуместным появлением какие-то встречные машины.
– Всё, – сказали мы оба разом. Кажется, и понимали произошедшее мы одинаково огорчённо. А именно: что дальнейшие поиски ни к чему, делать тут уже нечего.
Возвращались опять попутными. Керес отправился к себе в общежитие, я в гостиницу.
– Ладно, не расстраивайся, в искусстве потери бывают и посущественней, – сказал он при расставании.
Мне утешение лишь прибавило досадной краски. Человек, ворочал я свою уязвлённую суть, не хочет выглядеть обиженным, пробует скрыть огорчение. Но я-то, а не кто иной втянул его в эту неладную ситуацию, в настоящий густой обман. Следующим утром Керес по телефону сообщил мне, что никуда не едет. В голосе чувствовались довольство, горение. Это было вопреки тому, чего я мог ожидать.
– Извини, – сказал. – Очень спешу. Обо всём после, – и положил трубку.
Спустя дня три, заглянув к нему в общежитскую комнату, я застал его работающим у мольберта.
– Глянь как чудесно, – он загадочно и торопливо улыбнулся прищуренными глазами. Протянул мне свежевысохший, но не разглаженный, скрученный по длине фотоснимок.
Это был тот самый, кульминационный миг нашей поисковой операции, когда мимо нас проплывал и уже отдалялся трубовоз, а с ним в одном движении, будто прилепленные к нему, неслись велогонщики.
– Когда ты… успел? – было моим первым вопросом.
– Ты присмотрись повнимательнее, – перебивая, встормошил меня Керес. – Частью объекты загораживают панораму, но и обогащают её. Не находишь? А там вот – то самое. Ты его, кажется, хотел показать…
Действительно, содержимое всего облога выражалось и через фон, и через ближние отчётливые контуры. И мне представлялось правдой, что и здесь, на фотобумаге, колёса, как и тогда, крутятся, и трубовоз, велогонщики продолжают своё движение, заявляя о своём присутствии в единственной и нетронутой доле времени. И будто это неостановленное движение специально возникло для утончённых восприятий.
– Это не всё, – довольный проговорил Керес. И познакомил меня с карандашным и акварельным эскизами. На мольберте помещён был и подрамник с уже натянутым на него холстом. На его лицевой стороне пробные мазки масляными красками – воплощение эскизов.
Я вгляделся: панорама интерпретировалась. Были сокращены излишества на фоновой части. Велосипедисты тянулись не следом, а уже обгоняли машину. В середине, как раз напротив штабеля стальных труб – девушка, чего не было на фотографии. У неё мягкие, сдержанные линии профиля, из-под кепочки-ветровки выпархивают и утягиваются назад серебристо-рыжеватые волосы, к вещовке, за плечи, перетекают простенькие, но изящные ремешки. Набирались и другие изменения, дополнения.
– Может, ещё нужен цветок? – поинтересовался я.
– Или – кот на плече. У неё, конечно, – парировал хозяин положения, указывая на подрисованную мадонну. И мы дружно расхохотались, не в силах и не желая остановиться. Громкий смех, будто усиленное эхо, бухнул по всей комнате. То была солидарность наших друзей, находившихся рядом и наблюдавших нашу с Кересом встречу.
– Одобрено к диплому, – Керес подытожил произведённый на меня эффект. И я понял, что теперь мы окончательно поменялись ролями: моя назойливость по выявлению ещё во многом скрытых для меня особенностей и глубины художественного восприятия как бы переходила к нему. Хотя это радовало, я чем-то одновременно был встревожен.
Пожелав другу успехов и распрощавшись, я продолжал думать об этом странном состоянии самого себя.
Такое вот переложение с фотографии, рассуждал я, даже усиленное воображением, явно слабее того, что представлялось натурально, при моём первом знакомстве с панорамой. Техническое копирование – это шаг не вперёд, а назад. С другой стороны, я сам усмотрел в эскизах и едва ли не полностью виденное мною воочию из чердачного окна. Этим подтверждалось также и то, что Керес воспринял мой идеал непритворно, таким, как он существовал у меня в мозгу и в чувственности. И однако же… Воплощённое его старательной рукой, – сможет ли оно соответствовать высшему, закрайнему смыслу? Уровню, который, что было совершенно очевидно и, как я понимал, – не мне одному, – непостижим.
Круг замыкался. Я перебирал варианты, в которых мог бы отшлифовать возражения. Кому? Наверное, нельзя было исключать и Кереса. Но не стали бы они элементарной придиркой, показателем духовной и моральной испорченности? На ум приходили творения художников, не удалявшиеся ни за какие пределы и в то же время – с огромным воздействием, даже на самих творцов. Откуда происходит их наполнение, порой трагическое, чудовищное, как у Бэзила[5 - Имя художника в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».]?
Почему запредельное виделось в обычном?
Разгадка так и не пришла. Работа Кереса была защищена им с оценкой отлично. Появились даже похвальные рецензии на неё в малочисленных местных газетах.
Я видел её в тот день, когда автор картины, получив документ о завершении учёбы в училище, прощался тут с педагогами и друзьями по студии. Тогда же прощались и мы с ним: насыщенных встреч, которыми раньше одаривала нас жизнь и к которым мы так привыкли, больше не стало.
Он скоро поступил в «Репинку»[6 - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. До 1918 года – Петербургская академия художеств, учреждённая в 1757 году.], на очное отделение, чего добивался и о чём мечтал, закончил там полный курс и, преодолев железный занавес, выехал за границу, откуда уже не возвратился и где жил весь остаток своей жизни, меняя страны и города. Мы общались уже только на расстоянии и очень редко, сначала в письмах, а позже исключительно по телефону или посылая открытки, телеграммы.
Новые возможности давали интернет и спутниковая связь. Но с их появлением жизнь уже отмеривала для Кереса крайний рубеж.
Как самую дорогую реликвию храню я один из акварельных эскизов «Мира», подаренный мне другом ещё при начале его работы над зачётной картиной.
Без лишней скромности я мог считать себя имеющим касательство к делу, ускорившему рост и созревание таланта художника. Мне верилось, что в моих, пусть и не до конца ясных воззрениях, как в истоке, суждено было омыться его судьбе. И тем я должен бы навсегда быть благодарен также судьбе своей, собственной. Только вышло тут всё вовсе не так возвышенно, как должно бы казаться со стороны. Конечно, я имею в виду прежде всего Кереса, а не себя.
Об этом расскажу подробнее. Но до того хотел бы коротко обозначить преобладавшее в содержании моих изысканий в художественном и конкретно – в изобразительном.
Я любил их, эти изыскания, и в этой любви остаюсь до сих пор. Здесь околонаучное, исследовательское умеренно разбавлено беллетристикой. На уровне моей современности всего, совокупного или, по крайней мере, какой-то немалой его части со счёта не сбросить; но по большому счёту, который я веду сам, размах в этом не должен исходить из корысти. И всякие устремления перевести свой устоенный жанровый опыт в нечто практичное, вещественное, дающее материальный доход, постоянно мной пригибались.
Тут не обойтись было без соответствующего, развитого интеллекта. Но его не следовало выставлять на вид, не следовало допускать его соприкосновений с мелочным, примитивным.
Обычно я позволял себе лишь подсказки или советы кому-нибудь, кто неохотно выкладывался из-за лени, тупости или спеси. Например, как составителю или редактору мне требовалось просить ближайшего штатного художника проиллюстрировать некую вкусную прозу, стихотворение или книгу. А тот будто из великого одолжения бросает мне на стол первое, что подвернётся под его карандаш или фломастер, иногда вовсе неподходящее, грубоватое, пустое. Ещё и гоголя из себя строит. Меня это возмущало.
Я сам брался подбирать художников, сам обдумывал иллюстрации и предлагал воплотить такие проекты. Иные морщились, но в конце концов дело шло, и в ряде случаев совсем неплохо. Засчитывалось удачное не мне, но я был без претензий. Кое-кто из подобных опытов даже извлекал дивиденды.
Со временем я не мог не придти к мысли, что мои наклонности помогать художникам вот таким образом были во мне как бы особенностью, одной из таких черт характера, какие возникают неизвестно откуда и во множествах присущи также и другим людям. Тут следовало взглянуть на себя как можно строже, поскольку уяснение подобных вещей легко накладывалось и на ту отдалённую пору, когда мы с Кересом были ещё в исканиях целей и смысла творчества. Всё ли здесь происходило благополучно?
Я теперь знаю, что этот почти риторический вопрос вызревал во мне по основаниям весьма серьёзным. Хотя, если бы я ставил себя в положение человека более прагматичного, прямого, что ли, то я мог бы и отмахнуться и, как сказано, не создавать из мухи слона.
Ведь по-настоящему выбор по части служения духовному и мной, и Кересом, каждым отдельно, был к той поре уже сделан, и даже при том, что ни он, ни я не успели ещё произвести ничего фактурного, как личности мы уже могли считать себя состоявшимися. Значит, и моё тогдашнее предложение Кересу ни в коем случае не могло сопровождаться ничем иным, кроме пользы. Никак не вреда. Тем более, я ведь с этим предложением к нему, как, между прочим, и ко многим уже после, вовсе не навязывался.
Стоило, может быть, учитывать ещё и гамму нашей взаимности.
Да, был тогда Керес хорошим и даже лучшим из моих друзей, ему, возможно, не хотелось отказом портить чувства его привязанности ко мне или мои к нему. Но ведь это из какой оперы!
В том, что имело отношение к искусству, Керес, насколько я его знал, отличался редкой и завидной щепетильностью. Скажу больше: в оценках произведений, стилей, исторической правды мы с ним не только сходились, но, бывало, и схватывались, оспаривая каждый своё.
В конце концов, наверное, всё, к чему обязывают начинающего художника учительские концепции, а позднее – уже как мастера – опусы исследователей, критиков и прочей неравнодушной, а нередко и продажной братии, – это всё по сути тоже ведь – предложения. Сколько там неточного, амбициозного, вздутого! Такого, чего нельзя принимать хотя бы кому.
Керес также волен был поступить как для него лучше, не впадая ни в какую зависимость.
Не произошло, к сожалению, как раз этого, последнего. По моей ли или кого другого вине? Этого я не знаю. Частью, могло быть, и по моей.
Особенно горько мне от того, что ввиду обстоятельств, о которых я уже коротко упомянул, я оказался в полнейшем неведении относительно творчества Кереса. Творчества, которое приходилось на основной этап его жизни – как самостоятельного профессионального живописца. А это не год и не два, целые десятилетия. Начиная с той минуты, когда я от души поздравил его с удачной дипломной работой и мы расстались навсегда.
Если не считать хотя и многочисленных достижений Кереса до окончания училища, которые были всего лишь багажом подмастерья, то, собственно, только этой картиной мерил я уровень его художественной талантливости.
Всё, что он создавал позже, как бы уже следовало оценивать по ней, обходясь без наглядного, без образцов.
И мне суждено было протащить на себе груз этой оплошной и более чем странной доверительности. Казавшийся верным, сюжет опрокинулся уже при самом конце.