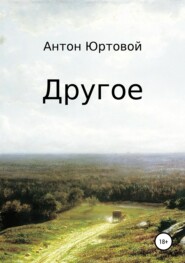По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда стало ясно, что староверы советской власти помощники никудышные, а ещё и настроенные по отношению к ней открыто враждебно, то не придумали «в назидание» иного как собрать наиболее неподатливых к сотрудничеству, силком загнали их на кое-как сколоченный бревенчатый плот и, утащив его возможно подальше катером в открытое предштормовое море, зимой, обрубили, как больше ненужный, буксирный трос.
Как и обречённые на расправу, жители посёлка уже заранее знали об этом. У берега остающимся разрешили собраться почти рядом, у края воды, над обрывом. Несколько из них, не выдержав, бросили себя вниз и утопились. О судьбе удалённых больше никто ничего не слышал. Конечно, они погибли. В их числе – трое ближних родственников Кереса.
Он прошёл фабрично-заводское обучение, потёрся в унизительной промышленной эксплуатации, в житейской нищете. Был запримечен как способный и безотказный в рисовании и фотографии. Думаю, я пользовался у него полнейшим доверием, поскольку переходившее на него клеймо социального изгоя он, судя по всему, не выставлял ни перед кем больше, и это было его значительной, важной тайной.
Огласка могла аукнуться в чём угодно.
В мастерской копилась тьма истрёпанных альбомов и листов самого разного формата с репродукциями скульптур, живописных полотен, эскизов. Я снабжал Кереса книгами. Десятки их, целый большой фанерный ящик из-под папирос «Беломор», обнаружились в комнатке, отгороженной от класса торпедной стрельбы, рядом с отопительной печью.
До моего сюда перевода в комнатке совмещал проживание с обязанностями по службе мой предшественник, сверхсрочник, мичман, покинувший часть при выходе на пенсию. Книги были его, а теперь ничьи. В основном художественная литература, воспоминания, памфлеты, история, философия. Из-за чего всё это осталось неувезённым, не знаю.
У мичмана виделись хорошие возможности приобретения новинок, а также оригинальный и отменный вкус. Это показывали и выбиравшиеся им издания, и его несчётные карандашные пометки, и целые пространные записи на полях страниц и на закладках – своеобразный дневник восприятий.
На самом дне ящика хоронилось «Житие» протопопа Аввакума. О нём я раньше только слышал. Керес же, оказывается, читал ещё до службы.
Вслед за мной он повторно бешено изучал любопытное, пламенное сочинение.
Если иметь в виду удалённость от гражданских учреждений культуры более-менее достойного уровня и очень редкие выходы в увольнения, то книги, как пища для интеллекта, были в то время нам, военным-срочникам, всего доступнее. Но и того не хватало.
Бригадная библиотека, практически растерявшая абонентский круг, пополнялась экземплярами не чаще одного раза в год. В неё переставали ходить. Мне и тут везло. Вскоре после моего назначения как раз пришла очередная партия. Я узнал об этом одним из первых, и мне-то в руки первому попал сборничек дотоле запрещённого Есенина.
Тут же потащил его к Кересу. Книгу мы жадно выхватывали из рук друг у друга, читая вслух попадавшие на глаза любые строфы и строчки. Сгорали от нетерпения узнать, кому из нас что представляется как наилучшее. Удивительно: остановились на одном, где Есенин объясняет сам себя, в своей предназначенности. Поэт формулирует то, что было для него главным уже с первых своих стихов и оставалось при нём до конца. Полная свобода и независимость, но не вообще, а в личном – при выражении индивидуального, темперамента. Талант оригинален и ярок только в этом случае.
Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Быть поэтом – значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поёт – ему не больно,
У него одна и та же песня.
Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.
Стихотворения покоряли полнейшей искренностью автора. Было ощущение, что вот сейчас он обсуждает с нами только что им написанное и здорово смущён небрежностями, которые не устранены не ввиду отсутствия грамотности, необходимой для сочинения стихов, а исключительно из желания не упустить возможности растолковать себя, чтобы быть лучше понятым. Указания на себя, такого, каким он был в жизни, встречаются в творчестве Есенина во множестве, они его, что называется, пронизывают, и нам с другом они были настолько ясны в своей простоте, что мы уже с удовольствием принимали близко к сердцу его целиком, не разделяя на отдельные произведения и легко извиняя самые очевидные небрежности, каких немало обнаруживалось…
Отслужил Керес раньше меня, поступил в художественное училище. Буквально в километре оттуда был и мой вуз. Приезжая сдавать зачёты, я навещал друга. И на новом месте он был постоянно занят. От учёбы старался брать максимально. Постоянно подрабатывал на жизнь, выбивая заказы на оформительство где-нибудь на предприятиях, в конторах, в ближайшей церкви. Там работал по ночам и в выходные дни. Имел дело в основном, конечно, с халтурой. Но соучащиеся любили его, а потому и меня, гостя при нём, принимали как своего.
В комнате, где ютилось человек, кажется, двенадцать, приглашали на скромный перекус, наперебой посвящали в бездны своей будущей профессии и даже в личные пристрастия, увлечения. Брали с собой в натурную клетушку. Постоянно где ни придётся усаживали позировать.
Я был не в меру тощим из-за гастрита, со впалыми щеками и ввалившимися глазницами; броско торчали скулы. То, на чём рисовальщики предпочитают набивать руку и глаз. Возражать было нечему. Сообща обкатывали знания истории искусства, новинки. Жаркими были мнения о фильме «Андрей Рублёв»[3 - Художественный фильм режиссёра Андрея Тарковского.]. Находили, что события в нём подавались умышленно тяжело, вязко, но, как произведением, восхищались. В кружке никого не нашлось, кто видел бы росписи Рублёва и Грека[4 - Феофан Грек. Живописец. Жил и работал в Византии и в Древней Руси. Украшая храмы, писал фрески, иконы, миниатюры. Некоторые из работ выполнил совместно с Андреем Рублёвым.] вживую и в таком большом количестве, так что кинокадры этого плана воспринимались не иначе как серьёзнейшее открытие.
Но разными были оценки в соотношениях с историей.
Чуть ли не большинство утверждало: позже искусство росписи и украшения храмов никогда уже не поднималось на столь могучие и притягательные вершины.
Керес эту точку зрения разделял и даже давал подробные пояснения. То показывало себя старорусское, дониконовское, как-то просто и не стараясь быть убедительным, утверждал он. Мне такой подход был в нём хорошо понятен.
Однажды он заговорил о своей преддипломной практике. Не удавалось нащупать тему работы. Поискать собирался в одной из полузахиревших деревень, вблизи какой-то стройки, рядом с рекой, с лесом.
– Там буду как дома; попью парного молочка, страх как соскучился, – немного задумчиво рассуждал он. Я, как мог, пытался поддержать, подсоветовать; кое-что казалось ему любопытным.
Теперь, имея в памяти чарующий образ мирного животворящего покоя в поселковом пришахтном пейзаже, было в высшей степени приятно поделиться им. Тем более, что Керес начинал торопиться. Его рюкзак лежал на кровати уже почти полностью упакованным.
– Вот тема для тебя, – сказал я ему почти с порога. И передал свои привезённые свежие восторги. Он приободрился, повеселел. Было видно, предложение ему пришлось, его смысл интригует. Был рад и я: не зря суетился.
Решили: не откладывая съездим туда вместе, благо это не очень далеко, хватало одного дня. Свою сессию мне почти не приходилось догонять.
И вот наступил тот день.
На попутках добрались часа за три.
На веранде того же дома сидела та же старая женщина, гладившая кота. Такими же были солнце, узкое марево по горизонту, крыши и стены домов, неоглядность равнинного заболоченного окоёма, пологие переливы обжитых балок и возвышений, лёгкий истапливаемый дым по-над тесовыми скатами.
Будто и не слышны никакие шумы. Будто пахнет свежеиспечёнными отломками хлеба и до блеска промытыми, заново отструганными полами. Искристое, но неброское торжество сущего, бытия.
Ещё на подъезде мы возбуждённо обсуждали видимое. Кересу нравилось. Он перенимал эстафету. И, поддаваясь порыву удовольствия, всё пристальнее во что-то всматривался. «Соизмеряет масштабы, детали, цвета, а насчёт целого, сомнений нет, он его уже принял, и, кажется, – окончательно», – думалось мне.
Поднялись на чердак. Отсюда картина открывалась ещё величественнее. Но Кереса она чем-то насторожила.
– С этой диспозиции я не сумею отобразить главное, – сказал он.
– Что – главное? – обомлел я.
– Ну, как это объяснить? Можно домыслить, но оно не получится таким, как на самом деле. В настоящем главное оно же и лучшее…
– Ты думаешь?.. Нет, не торопись. Погляди-ка вот так… – я лихорадочно призывал к себе в подмогу уже, казалось, навсегда плотно устоенные собственные мысли о природе эстетического, об элементах кажущегося и таинственного в нём, об озарениях, о миражах. То, что без моего нажима Керес охотно принял и уже столько лет взвешенно делит со мной. Неужели?.. Мысли запрыгали, завертелись, задёргались. А Керес будто застыл в сомнениях.
– Это будет не по мне, – сказал он.
– Хорошо, давай сойдём вниз, подвигаемся. Тебе нужна исходная позиция?
– Да. Но мы её можем не найти. Это редкость.
– Редкость. Но я-то её, полагаю, нашёл, и если бы…