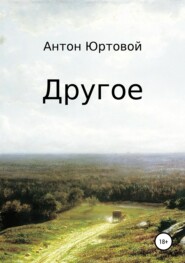По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крик, смех, задор. С десяток рук тянулось к уже подбегавшему сзади и готовому вспрыгнуть на борт парню годов около двадцати двух. На нём летняя форма красноармейца без погон и без обтяжного ремня. Из-под расстёгнутого ворота гимнастёрки проглядывает белая полоска исподнего. Небрежно, задом наперёд, на вихры налепилась перемятая пилотка, ещё со звёздочкой. Лица не видать. За плечами почти пустой вещмешок. А в поднятой над головой левой руке – букет розово-белых пионов и ярких красно-синих кукушкиных черевичек.
Скорее всего, парень, демобилизовавшись, добирался в своё мирное неизвестное и сейчас, доехав сюда на свернувшей с трассы попутной и передохнув где-то у опушки, ловил следующую оказию.
Стыдливо и жадно тянутся девичьи руки. Кому-то первой, может быть, от начала войны и до настоящей минуты, когда война уже закончилась, достанется прикосновение сильной, горячей, желанной солдатской руки. И, вместе с этим, возможно, ей же – букет ранних летних лесных цветов. А дальше…
– В шахтном музее я ничего подобного не заметил, – сказал я директору, продолжая разглядывать работу и почти не слыша его.
– То-то и оно, – моментально отреагировал руководитель. – Посмотри вот здесь. – И повернул картину.
На обратной стороне, по холсту в нижнем правом углу, читалась масляная надпись тонкой кисточкой. Не обращаясь ни к кому, писавший просил: при его смерти, с ним, в одном гробу, захоронить и эту вещь. Позволял без рамки. Подпись и дата отсутствовали.
– Это – как завещание. Решено его уважить, – открыл, кажется, последнюю карту хозяин кабинета.
– Сними, – дал он распоряжение тут же приглашённому управленцу. Тот, видимо, был целиком в курсе.
Пока длилось отделение холста, я продолжал торопливо изучать творение. В нём были, разумеется, и другие отличия. То есть – опять же – от нашего с Кересом.
На небе, над пространством, уже остававшимся позади машины – облако. Довольно мощное, с отвислой насупленною серединой, но рассеянное по краям, теряющее себя. Ещё одно, тёмное-претёмное сплошь, почти у горизонта, в стороне, куда едет машина. И в той же части картины, вдалеке впереди, еле заметной, белесою тенью перебегает дорогу кот. Может быть, кошка. Сама дорога – в жёстких, закаменелых выбоинах. Ближе всего – широченная, чуть ли не на всю проезжую часть, лужа. От неё исходит яростный блеск отражённых солнечных лучей – прямо в глаза наблюдающему картину. Сила этого блеска уже не настоящая, а лишь предполагалась.
Работа выглядела здорово испорченной: в чешуе иссохших отслоек грунта и краски; тонкая рамка в рыжевато-бурых пятнах. Изображению доставалось уже и сейчас.
Было слышно как осыпаются крошки трухи; они ронялись на стол, сухо шуршали внутри при скатывании холста.
Скоро мы уже подъезжали к дощатому крыльцу осевшего к земле дряхлого деревянного барачного строения. Оттуда как раз выносили покойника. Гроб был закрыт крышкой.
Оказалось, тело обнаружили по неприятному запаху спустя больше недели после смерти; оно разлагалось…
Из пафосной скупой речи парторга узнал, что умерший был коногоном. Больше из этого печального племени в посёлке и даже в соседних шахтёрских посёлках не оставалось живым ни одного. Прозвучали другие речи, траурные мелодии, снова речи и музыка, уже над могилой. В основном говорилось только то, что входило в казённый интерес. О личности как таковой, о занятиях человека живописанием – очень коротко, буквально вскользь.
Умерший не был здешним старожилом. Как недужного и уже не работающего по возрасту его переместили сюда с одного из поселений горняков какой-то соседней шахты рудника, входившей в один угольный трест. Будто бы на время: то поселение из-за чего-то подпадало под снос. Получилось же – насовсем.
Двое мужчин с чёрными повязками на рукавах (цвет угля) суетливо сняли колпачок с тубуса из прессованного картона, достали оттуда осыпавшийся трухою свёрток; удерживая за края, развернули и подняли холст повыше, на обозрение собравшихся; коротко пояснили суть необычного завещания.
Процедуре сопутствовали общее неясное тяжёлое дыхание, нечёткие, бесстрастные реплики удивления, перешёптывание, щелчок фотоаппарата. Затем картина опять была свёрнута, перевязана чёрной атласной ленточкой и вставлена в цилиндр. Приподняв одну продольную сторону крышки гроба, уложили его обок с телом покойника, приглубили его ко дну.
Установилось гнетущее отстранённое молчание. Над собравшимися мелко просыпало стылыми дождевыми каплями. Крышка снова легла на место. Гроб быстро забили, опустили.
Будучи здесь не своим, я стоял в отдалении, у края собравшихся, напротив мужчин с повязками. Вроде и не было надобности подходить ближе. Уже дотошно обследованную мною ранее холстину я видел хорошо, но, помню, с опозданием пожалел о том, что не оказался напротив гроба с другого края. Тогда, возможно, удалось бы хотя на миг рассмотреть лицо умершего, если, конечно, его не задёрнули покрывалом, опять же ввиду разложения тела. Момент, к сожалению, был упущен.
Провожавшие бросили в могильную пасть по щепотке жёсткой сырой глины, заторопились покинуть кладбище. Ритуал для них, чувствовалось, был утомительным, каким-то унижающе лишним, ощутимо не коснувшимся никого. Будто не содержалось в нём и обычного, житейского смысла.
Поминали в клубе, в зале с густо прокуренным, спёртым воздухом и поднимавшейся от пола сыростью. Я здесь был раньше, во время своей практики, всего один раз, на чествовании ударников смены, в которой работал. Как и тогда, а прошло с тех пор уже более полутора десятков лет, тут, видимо, часто устраивались танцы, репетиции участников художественной самодеятельности, какие-нибудь викторины.
Ко мне, до того, как сесть за столы, подошёл парторг, мужчина средних лет. На лице намеренность поговорить. Я понял, что это инициатива не его, а директора, чего-то, может быть, по причине дурно усвоенной служебной этики покривившего душой, напустив на себя видимость малой осведомлённости о коногоне – и как человеке, и об его художественном даровании.
– Обратите внимание, – сказал партийный функционер, быстро и ровно входя в роль опытного и достаточно информированного поясняющего и показывая вверх на стену, в межоконье, куда надо было смотреть, заламывая шею. Там, на фоне давних и уже сильно затемнелых белил, торчал небрежно вколоченный оржавелый толстенный гвоздь и пониже его не тронутый светом четырёхугольник – след от висевшего и снятого предмета. След указывал, что снятое висело плашмя, без подпорок, то есть и без наклона. Об этом же говорили тонкие светловатые полоски, уходившие от гвоздя к углам рамки, – отметины от шнурка. Изделие, стало быть, не снимали даже при накладывании на стену белил.
– Картина долго находилась на этом месте, – уловив моё скомканное недоумение, произнёс парторг. – За исключением последнего пожелания, рисовальщик ни на что не претендовал, – продолжал он. – Дорожил свободой, которую понимал более чем странно. Коллег – и любителей, и образованных – не терпел, гнал от себя. Много пил. Говорят, оригинал у него только один. С него делал копии и раздавал за спиртное первому встречному. В конце концов и оригинал ушёл от него таким же образом. Не было ни семьи, ни родни. Уже много лет жил слепым, в системных запоях.
– Известно ли, где ещё есть работы? А – эскизы, наброски?
– Всё растеряно, забыто. Впрочем, будто что-то видели в каком-то общежитии. Захоронённый экземпляр передал шахте один фронтовик. Он недавно умер. Они дружили. О завещании стало известно от оформителя этого зала, – разговорившийся повёл рукой на стороны.
По стенам, почти смыкаясь одни с другими, висели отчётливо несоразмерные по величине и несообразные в предназначении стенды с фотографиями передовиков производства, панно, диаграммы горняцких успехов, грамоты, репродукции картин, портретов – скуднейший арсенал политического агитискусства погибавшей эпохи. Их вид сообщал о том, что обновлялись они крайне редко и в том не заключалось ровно никакой фантазии. Верхние линии у большинства из них почти достигали потолка. Поднимая поделки, удавалось, наверное, препятствовать попыткам порчи, которых нельзя было не заметить: зольные пятна от тычков изгоравшими окурками, ладонные и пальцевые облапы. Ведь окружавшее могло вызывать у посетителей только равнодушие и отторжение.
Ясно, что и схоронённая картина художника обрекалась разделять здесь такую же бедственную участь.
– Это, пожалуй, и всё о нём, – произнёс парторг, прерывая общение.
Церемония закончилась. Об усопшем никто больше не смог ничего мне добавить существенного. Я уходил, испытывая усталость, и уже знал, что не посетить общежитие никак нельзя.
Творение коногона, как оригинал или в копии, могло попасть туда как угодно случайно, даже после того, как он ослеп и продавать уже было нечего. Тем более, что там существовала традиция уважительности к искусству. И на простенке в клубе экземпляр появился и завис на годы вряд ли с одобрения партидеологов или даже самого директора, не теперешнего, так предыдущего. Скорее, тоже по случайности. Недосмотрели. Недоучли. Ведь художник вовсе не склонен был угождать своей угрюмой современности.
Довольно просто объяснялось и устройство скорбного ритуала. Могло дойти до нежелательных пересудов, если бы о завещании стал распространяться оформитель. Особенно, если он не из шахтного кадрового состава, а сторонний.
По строгим партийным меркам, тут для кого-нибудь из руководства мог вызреть подвох с неприятными последствиями. Скорее всего – для директора или того же парторга.
Пока мысли обо всём этом толклись у меня в голове, я уже подходил к памятному для меня зданию.
Раздельными красивыми шпалерами стояли вокруг него деревья с высокими, пышными кронами: липы, клёны, берёзы, ели. Порядья местами захватил подлесок. Зелёный убор, едва лишь тронутый осенью, по мере моего приближения к нему, возбуждал чувственность. Лёгкое томление перетекало в ожидание чего-то приятного, как то бывает в преддверии давно назревавшей радостной встречи с близким, родственным нашему духу.
Подойдя к зданию, я, однако, был сильно разочарован.
Несколько деревьев, из тех, кроны которых нависали над крышей, стояли обгорелыми. В копоти то тут то там стены, балконы, окницы. Пожаром, а также тушившими его уничтожены, истоптаны или измяты палисадники, цветники.
Внутри общежитие было уже отремонтировано. Жильцов пришлось на время отселить, но теперь они снова заняли тут свои места. На всём я замечал следы перепланировок. Удобства и уют, которые когда-то броско выставлялись как образцово-показательные, сведены на нет. Обычная мужская шахтёрская жилуха. Ни столовой, ни буфета, ни библиотеки, ни пианино. Нет и красного уголка. Исчезли фойе; образованы общие коридоры; площадь комнат увеличена с расчётом на проживание в них до шести-восьми человек. То были уже невзрачные, тесные, чем-то, кажется, даже враждебные пристанища с неустраняемым душком размокшей угольной пыли и плесени, подтверждавшим особенности контингента.
Для чьих капризов устраивали ширму раньше? Кто сочинил сказку? И как шахте, которой оставляли только малые крохи от её прибыли, удавалось по-настоящему не только поддерживать, но и содержать выдуманное?
Комендант и трое вахтенных, они же уборщицы – это весь обслуживающий персонал. По очереди они дежурят за столиком у входа, меняясь через сутки. Пожилая женщина, которую я здесь застал, отнеслась ко мне крайне насторожённо. Показывала жилище неохотно. Разговор не клеился. Здесь она не так давно. О прежней обстановке слышала, знала, что показуха, но только и всего. Никогда раньше, до поступления работать, сюда не заходила да и не пускали. С раздражением восприняла вопросы о картине коногона.
– Пустяки какие-то. Да этим, – она указала на проходившего по коридору то ли полусонного, то ли полупьяного постояльца неопределённого возраста, – им, что ли, нужны ваши картины? – Вон всё развешано, вы видели. На них-то не смотрят. Коногон, говорите?
Последнее я воспринял с некоторой надеждой. Но она тут же угасла. Оказалось, женщина ещё даже не слышала о захоронении картины вместе с её автором. И то. Ведь событие произошло всего считанные часы назад. Впрочем, о самом факте смерти какого-то человека, о том, что он не из местных, а труп обнаружили через много дней, моя собеседница всё же знала. Такие события в посёлке не тайна.
– Слышала, что-то срисовывал, пьяница, бобыль, – бросила она осуждающе. – Точно ли вы о нём говорите?
Я сказал, что сам присутствовал на похоронах и на поминках.
– А вам он кто? Родственник?
– Нет. Я здесь по делам. Когда-то на шахте практиковался, жил вот в этом общежитии, и директора знаю. Он показал мне одну картину умершего. Я как раз об ней и хотел узнать от вас.
Женщина внимательно, словно до этого вовсе не видела меня, всмотрелась в меня. Что-то в её взгляде было неясное, неотчётливое, но взыскующее.
– Ошиблась; мне показалось, вы похожи на кого-то из знакомых, – рассеянно проговорила она, заметив, что я разгадываю существенное в её взгляде. – Да нет; так; показалось. Худощавостью вроде похожи, а в остальном ничем. Нет. Вы уж извините…
Было заметно, что к теме с художником и с его картиной женщина предпочитала больше не возвращаться. В этом случае и мне вряд ли следовало уточнять, на кого я мог быть похожим.