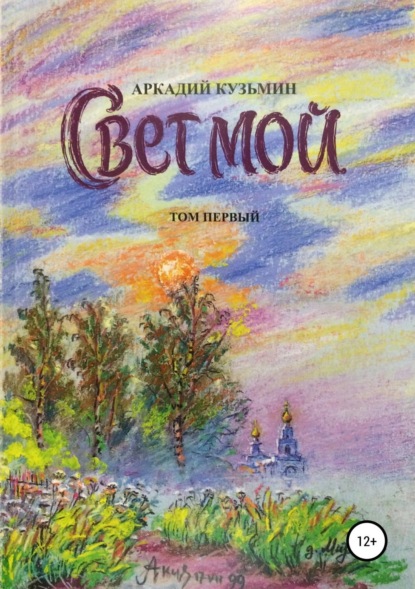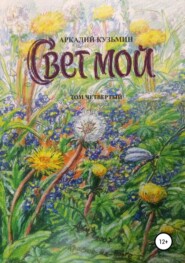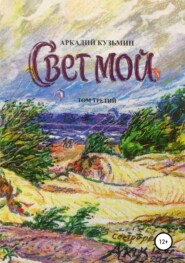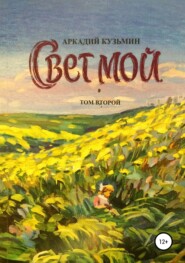По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Школьный глобус отдай! Соседские девки показали, что твои ребята его забрали, унесли.
– Ага, вертихвостки-сестрички донесли? – догадалась Анна, вспыхнула: – Мои ребятки его не украли, к Вашему сведению, а выхватили из костра, куда его зашвырнули немецкие солдаты; они жгли книжки и тетрадки и все ребячье, истребляли как заразу какую.
Вот времечко наступило! Ловкие сестрички Любка и Лида из шумливого семейства Шутовых, перекочевавшие с приходом немцев в опустелое школьное помещение (учительница Инесса Григорьевна и председатель Соломон Яковлевич, жившие здесь с дочкой, уехали), бойко воссиживали на коленях солдат (это Наташа видела) и цыганили у них формованные кругляшки конфет-леденцов:
– Ну, давай еще! Мало даешь! Тебе жалко, что ли, кавалер?! – и вырывали сладости у тех из рук.
– Так, где глобус? – гремел голос Силина. – Отдай!
– Сейчас принесу… Я не понимаю. – Анна все-таки возроптала, защищаясь: – Для чего ж, скажите, глобус Вам? Пусть мои детишки лучше тешатся – они по нему учились прежде: он дорог им. Понимаете?
Силин сверкнул глазками. И сильнее сжал в руке плетку. Тем не менее, порадовал:
– Власть новая сейчас наново воссоздает школу сельскую, начальную. Уже парты приискали, приготовили, завезут комплект. Учительниц пригласили. Учеба в школе обязательна для всех ребятишек. Потому и собираем все…
Усмехнулась горько Анна – не сдержалась снова:
– Значит, собираетесь учить детишек грамоте? Очень хороши «освободители»: все сначала изожгли, не разбираючись, а теперь,.. вишь, понадобилось для чего-то просвещать детей мужицких… Проявляют вдруг заботу…
– Придержи-ка свой язычок! – багровея, зашипел Силин. – Прикуси! Он тебя погубит, говорю! Убери свои глаза правдивые!… – заиграли желваки на скулах у него.
Видно, все не мог он простить ее за то, что был когда-то отвергнут ею: его домогательства, нахрап не нравились ей. А главное, он не был работящим парнем. И поэтому еще он все еще взъедался так на нее…
Ну, унес он глобус драгоценный… победителем!
Для чего-то немцы и взаправду открыли прежнюю начальную школу (видимо уже поверили в свою победу). Привезли сюда, в помещение при ней, двух неместных русских же учителок-сестриц курносых, даже привлекательных и очень щебетливо-глупеньких, но говоривших мило, хорошо по-немецки с зачастившими сюда к ним немецкими офицерами. Галантными кавалерами, форсивших в галифе с кожаными вшивками. В кожаных перчатках. И еще с плетеным хлыстом… С этими ухажерами учителки катались на лошадках по полям просторным. Они, не унывая, восторгались, например, меткостью стрелков немецких: видите ли, «Мессершмитт», или еще какой там их истребитель, достал с первого же захода их родного папу, забившегося в канаву, – первой очередью… Поразительно!
На занятиях в воссозданной фашистами сельской школе, или ее подобии, ребята, разумеется, не изучали никакой истории родной страны; они зато зубрили закон божий, и их учили величать «господином» старосту и также полицая Силина, а равно – и вышколенных, также зачастивших в класс, офицеров немецких, и вставать из-за парт и кланяться при вхождении тех. Оттого вся малышня, не привыкшая к таким порядкам, самолично разбежалась, спустя каких-то двух-трех недель. И в том числе Верочка Кашина, первоклашка…
Примечательно то, что наступил период проявления народомыслия в главном; все уже кумекали, как лучше приспособиться к выживанию в таких ужасных условиях. Так, многие вдруг занялись деланьем для себя ручных мельниц, чтобы молоть зерно на муку, что было проблемой, так как никаких мельниц теперь не было и не было продажи муки. Оказалось это мукомольное дело и не столь мудреным. И братья Кашины с ним тоже вполне справились, подсмотрев у мужиков проект: удачно сделали небольшую ручную мельницу сами. Они для начала ровнехонько отпилили от березового бревна два кругляка и вот, выдолбив в одном из них насквозь воронку (для насыпания в нее зерна), спирально вколотили в один и другой торцы ребрами мелкие осколки разбитого старого чугунка. Нижний кряж, который должен быть неподвижным, обили по краю железной полосой, приладили сюда железный лоток, а к верхнему меньшему диску приделали снизу металлическую планку с дыркой и длинную подвижную (чтобы вращать на штыре верхний диск) ручку. Признаться, отцовская, недоделанная мельница была громоздкой, ее каменные жернова были диаметром более полуметра, и было слишком тяжело прокручивать верхний камень детскими руками… А тут если, например, дважды пропустить зерно ржи через такую вертушку, то мука выходила вполне приемлемо мелкой, почти как на мукомольне.
На этом народ тоже учился, как выжить. Опыт бытовой. Приходящий.
XIX
– О-о, чудесно же: все мы при себе, ура! – И темнокудрая Яна-Яночка, жена при Павле солнечном, артистично ручками всплеснула и каким-то магическим взглядом повела перед собой, вот только что они и дети – третьеклассник Толя да трехлетняя Люба – уселись среди всех прочих граждан в желтоскамеечном вагоне и только что вагон, дернувшись, набирая ход, заколыхался мерно в движении вдоль по отполированным колесами рельсам. Все устраивалось нужным образом. А между тем это было 22 июня 1941 года, т.е. именно в первовоенное воскресенье, однако было так, что о том – о случившейся этим утром всеобщей беде – почти никто из горожан еще не знал. О войне еще не сообщалось населению по радио.
Итак, чета Степиных поехала с Финляндского вокзала на дачу – в курортную зону Сестрорецка, любимое место Яны; они хотели для отдыха воспользоваться здесь комнаткой, закрепленной за Яной по статусу учительницы, преподававшей местным ребятам историю. Нынешний учебный год по маю завершился. Все учащиеся уже разъехались на каникулы. А Павел получил календарный отпуск. И в семье у них, Степиных, покамест не было больших потрясений, разве что проявлялись мелкие супружеские стычки, что считалось у людей само собой разумеющимся, существующим в порядке вещей. Не до них!
До Сестрорецкого курорта курсировали так называемые круговые поезда – через станцию Белоостров – примерно каждые полчаса по выходным дням. Однако нынче поезд дошел лишь до Белоострова, а дальше почему-то не пошел немедля. Из-за этого в вагоне все заволновались. Что за штучки такие? Был-то уже самый полдень. А вскоре в вагон вшагнул хмуроватый железнодорожник-начальник в полуформе и, став у входа, срывающимся голосом оповестил всех едущих о том, что данный рейс прерывается в связи с тем, что началась, граждане, война с Германией. Немецкие войска на рассвете атаковали границу. Бомбили наши города. По радио сейчас дали правительственное сообщение…
Услышанное разум человеческий никак не вмещал, не мог вместить; шок, непонимание происходящего и растерянность придавили сразу всех пассажиров. Они, лишь опомнившись мало-помалу, зашевелились, задвигались, заахали, завздыхали, повалили вон из вагонов – кто куда. С сокрушением, тревогой и печалью. Со словами проклятия извергу:
– Вишь, чертоломит гад ползучий!..
– Чтоб поиздыхалось им… Горлохватким колбасникам!
– Вот и верь заклятиям… Доумасливались… до чего…
– Хорошо известно: чем заиграешься, тем и зашибешься, – присказал при сем, ни к кому в особенности не обращаясь, некий замурзанный субъект в вагонной толпе, потянувшийся на облитый лучами солнца перрон, перечеркнутый темными тенями от ближних лип. И сказанное им Павел, который волок чемодан и сумку, тут же мысленно перевел на пример своего жизнеустройства, прежде всего. Он подумал об этом потому, что нынче уже успел поскандалить с Яной вследствие ее умышленно-легкомысленного недопонимания, как казалось ему, его ясно-определенного умонастроения, отчего они и припозднились сегодня с выездом, будь неладен он. – Все ходят, как слепоглухонемые, – продолжал меж тем предрекатель сам по себе, не ища по обыкновению глазами ничьего взгляда. – Разве непонятно людям ничего?
Да легко словесничать всуе, тратить слова.
Ведь так ясно, ясно было: никакое понимание людьми такой нагрянувшей беды никак не спасало наш народ от безумства распаленных вояк, завоевателей Европы. И к такому суровому повороту всей жизни он морально не был готов – отнесся точно к какому-то стихийно налетевшему бедствию, неуправляемому самотеку, с которым отныне предстояло биться насмерть.
Однако же большинство граждан все еще надеялись избежать непредвиденных последствий объявленной им войны. И, собственно, неприятие и отторжение ее, как факта такового, теперь явно было написано, главным образом, на мужских лицах.
В этот момент Павел ничем не отличился, не запаниковал никак. Его всегда выручало врожденное отцовское чутье обывателя: успеть вовремя приспособиться к жизненным обстоятельствам; он ни в чем и ни с чем не высовывался нигде заметно, все на производстве делал, не надрываясь сильно, как умел и считал нужным, в меру своих сил – не утруждал себя излишними нравственными заботами. Никогда. Однажды он напрочь сбежал от изнурительного хозяйствования на земле нечерноземной, обедненной, донельзя капризной – от того, чем, бывало, занимались его родичи, его отец. Но он не принимал осознанно сердцем и все станочно-железное заводское производство, где выделывались, фрезеровались, вытачивались и шлифовались массовые металлические детали в определенно точных параметрах. К этому он в своей жизни попросту не привык и не думал привыкать особенно. Ко всему он лишь чуть подлаживался, поскольку имел все-таки мужскую закваску и было у него какое ни на есть самолюбие в тридцать пять лет. Отсюда все.
С самого утра Павел, недовольный медленным дачным сбором, обидел Яну, попрекнув ее капухой дворянской. И вот сейчас, когда она, услыхав о начале войны, в растерянности возроптала оттого, что теперь, по-видимому, приходится возвращаться обратно к себе домой, он прицыкнул на нее:
– Подожди-ка, Янка. Не дергайся поперед батьки. Все сделаешь не так, как нужно. Может, сумасшедшие еще образумятся – им поддадут маленько и они отступятся. Давай уж доберемся до того места, куда собрались. Там посмотрим, прикинем, что к чему… Бери сумку…
После этого Степины все же добрались на автобусе до курорта, пребывавшего в ослепляющей зелени и уюта. Они прошли по главной аллее мимо светлого главного корпуса. Занесли вещи в дощатый дом, походили по расчищенным дорожкам, по которым близко-близко попрыгивали, радуя малышей, мелкие птички, среди парковых деревьев и цветущих полянок. И потом заняли подходящее местечко на мелком сыпучем песке на немноголюдном пляжном пространстве под шелест волн. Сняли с себя верхнюю одежду…
– О, я вижу: не нашенский голубь закружил. Нет, чужак! – Задрал в небо голову, остриженную бобриком, атлет в белой майке, приостановясь близ стоявшего чуркой Павла, который тоже, услыхав самолетный гул и увидав летевший самолет, только удивился словам незнакомца.
– Вы всерьез считаете так? Не палят же зенитки… Если бы не было так…
– Да, финский друг, знать, пожаловал. Проведать…
– Да почему Вы так решили? – настаивал Павел.
– Фюзеляж не тот. Определенно финский разведчик… Явился – не запылился…
– Неужели и финны уже отважились куснуть…
– Полагаю, что попробуют. Ярослав. – Незнакомец представился и протянул Павлу руку. Павел пожал ее, назвался тоже.
– А такое, чую, будет непременно. Пыл-то не иссяк у генералитета с той стороны. Страсти-то еще не улеглись. И в глазах большого разбойника – Германии – очень ведь лестно малым странам тоже выказать свою храбрость, претендовать на какую-то долю…
– Но мы-то, согласитесь, Ярослав, со мной, – все-таки как-то шатко-валко волтузились с финнами здесь, на Карельском перешейке, потеряли много техники, бойцов. По-моему, эффективнее у нас прошло сражение с японцами на Халкин-Голе. Да?
– Ну, – сказал Ярослав, – это с тем несопоставимо. Ведь у нас тут с финнами не просто локальная несколькомесячная стычка была, отнюдь: вот, мол, поцарапались себе, порасквасили носы друг другу, и все, – большой сосед обидел малого.
– А что же? Немало жизней положили.
– А тоже – по немалой дури. Нашей же. Русской. Скажу по секрету. – Ярослав понизил голос. – В восемнадцатом году Ленин, когда предоставил им, финнам, независимость, то уступил им часть территории, что лежит Западней Выборга и что принадлежала России почти двести лет – со времен еще царствования Елизаветы Петровны.
– Неужели? Я не знал…
– Я карту дореволюционную видел… Финны ему помогали в революцию, он их любил, и они его любили взаимно, как и Александра Первого, который дал им в свое время широчайшую автономию… Из-за этого-то – привет! – Граница придвинулась вплотную к Ленинграду. И это стало угрозой большому городу, когда везде заполыхало. Вы, верно, понимаете… В переговорах о каком-то возврате тут земель финны уперлись… И ни у одной соседней с нами страны нет нейтралитета, никаких обязательств. Да ведь если таковые и есть, подписаны, – получается грош им цена…
– Да, да… Не имеют значения… Для одержимых…
– Все не так просто, Павел, с политикой. Ведь независимому правительству Финляндии присягнул на верность кадровый русский офицер Маннергейм. В дни российской анархии. Он возненавидел большевиков и чернь. Даже расстрелял взбунтовавшихся финских рабочих. Навел порядок. – Об этом я читал, – сказал Павел. – И вот, возглавив уже финскую армию, опоясал границу с нами на Карельском перешейке шипами надолб, а берег финского залива бетонными дотами и дзотами, которых ни один снаряд не прошибал, возбуждался в разговоре Ярослав. – Поверьте…
– Что ж, не промах, знать… Нашел себя… И проявил…