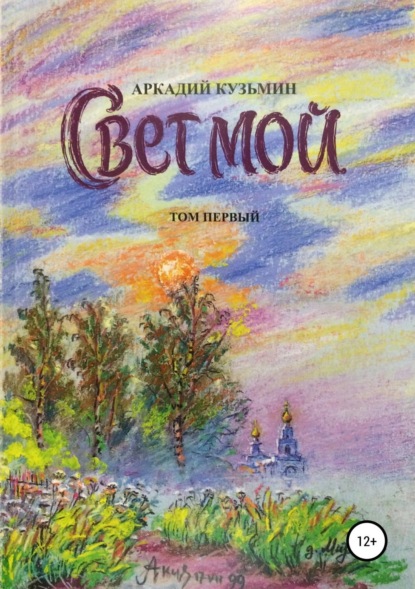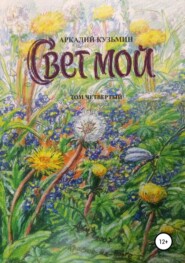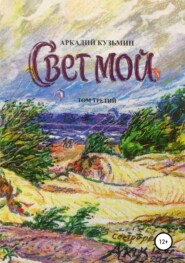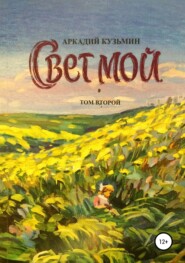По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Откроюсь Вам, я все это видел рядом, как военный корреспондент. По вхождению в Зеленогорск видел даже установленные на столах у финнов теплые пироги: они столь поспешно ретировались отсюда. Уверились настолько в прочность своей обороны…
– Видно, подготовились на ять…
– Так на их стороне была колоссальная помощь западных стран, считавших своим долгом защититься от Советской России. Вся Европа, ее лидеры, поднатаскала сюда сотни самолетов, орудий, танков, посылала сюда инструкторов, добровольцев. Кое-кто из стратегов считал возможным двинуться отсюда с оружием на Москву…
А то, что Маннергейм поддержит Гитлера – всенепременно. Да и другие страны-малышки точно примкнут, можно быть уверенным в этом. Несладко нам придется… – сказал Ярослав на прощание.
XX
Этот откровенный, хоть и случайный, пляжный разговор и пролет чужого самолета в небе поколебал первоначальное решение Павла остаться здесь, в Сестрорецке, на какие-то дни: дети могли оказаться в опасности. Поэтому Степины, несколько поприпиравшись по-здравому, однако, рассудив, решили вечером же вернуться к себе – на Таврическую улицу.
Павел ругал в душе все и всех за напрасную поездку.
К утру Павел всяко понимал: с летом дело – дрянь! Уж в небе – фюзеляж чужой!.. Но только друг Армен Меликьян считал, что вполне безопасно будет для них, Степиных, выехать из Ленинграда куда-нибудь восточней в область и там, среди природы, лучше перелетить каникулы, пока в пограничье наши войска поквитаются с тевтонцами. Да и был он заведомо уверен:
– Вот еще дадим мы, русичи, по зубам этим шпендрикам Гитлера! Посворачиваем им башки!
Впрочем, Павел, который еще никогда не нюхал пороха, и сам-то сходно размышлял, прислушиваясь к толкам и толкаясь среди живого, бурлящего люда; он тоже по-обывательски судил о защитительных возможностях страны, уверовав в непробивную мощь России, какую никто и ничто неспособны пересилить, сломить.
Между тем встревоженная Яна, отгоняя прочь самоуспокоенность, сомневалась в целесообразности вывоза теперь двоих детей на летний сезон из города: ее настолько пугала заполонившая все вокруг какая-то необъятная хаотичная пустота в произвольно, казалось бы, идущих событиях, не жалующих никого. Действительно тут никакой уж хороший советчик явно не мог бы предложить ей, маловерке, что-либо стояще-защитительное для жизни ее детей, увы. Ведь отныне самотечно все человеческие понятия сместились, а все делалось людьми ровно в бессмысленно-заколдованной спешке. Словно жесточеннейший вихрь, внезапно налетев, враз сорвал крышу с жилища и дверь с петель; он же соответственно подхватил и всех жильцов, живущих в нем, с силой закружил и понес куда-то врассыпную, как песок сыпучий. Они-то не успели ни даже собраться со своими обыденно-трескучими, не дававшими им покоя, мыслями и никому ненужными решениями, ни даже мимолетно оглянуться ни на что.
Никакой толковой информации не было.
Вот поди, уясни толком что-нибудь путное на ходу, в такой неразволоке…
Когда где-то невдали, у самого порога, или уже здесь, за порогом, была на полном ходу и наславу наизготовившаяся для бойни чудовищная немецкая армия. Хищно раздувала ноздри. Напирала рылом, не разбирая ничего под ногами. Дрожи, визжи вся Европа! Твой час, коллаборационист!
Увы, делать нечего. Яна благоразумно собралась, не артачась, не мешкая, но скрипя сердцем, в нынешний отпуск вместе с детьми – Толей и Любой; она оттого и делала все как-то механически, непрочувствованно, сама себя не контролируя с прежней привычностью. Не контролировала еще постольку, поскольку они, оба непутевых, она осознавала, великовозрастных родителя, находились сейчас при ребятах в психически-взъерошенном виде, ибо вновь поскандалили открыто – при очередной вспышке недовольства друг другом. Оно же, сегодняшнее, недовольство, проявилось лишь из-за того, что они впопыхах, собираясь, чуть было не забыли взять с собой патефон с классными пластинками – увлечение Павла. Именно из-за этого они опоздали на нужный рейс поезда, а потом Яна неуклюже засуетилась при отчаянной посадке в вагон, что еще сильней раздражило взвинченного непорядком Павла.
Видно, не зря Яна считала себя убежденной невинной страдалицей, продолжающей ею быть при нем, муже. Определенно она страдала с той осени, как она с ним сблизилась опрометчиво, отказавшись вдруг от союза душ с Никитушкой и, значит, от новых его, Никитушкиных, волшебных к ней писем, по которым она всегда потом вздыхала, все поняв, перебирая их в руках. Она стойко, как истая историчка-консерватор, не доверяла ничьим благостным словам (перестала доверять), тем более мужниным; она каждый раз понимала его, его подлинную человеческую суть, все меньше, чем больше, как жена, общалась с ним. Невозвратно время. Да не судима избранность судьбы. Лекарства нет для лечения хронического супружеского разномыслия. Изюминка как раз в том, чтоб не залечить его. Ни под кого.
Нынешняя ссора вышла – Павел полагал, – может быть, потому, что он после ночи, и проспавшись вполне нормально, позевывал отчего-то, точно от острой нехватки кислорода в организме. Оттого, видимо, так заклинило в нем механизм переработки его дум пустых, неразрешимых, сколько он ни старался осмысленней и напряженней думать о чем-либо нужном. От него-то самого ничего уже не зависело сейчас, и все. Видимо, просто дьявол недумающий сидел в нем и правил им.
И то: осознанно Павел считал себя обязанным быть правым перед женой почти во всем, как вполне настоящий мужчина, законный преемник и продолжатель мужского абсолюта в жизни, иметь веский голос, быть непреклонным перед слабым противником – женщиной. Тут вовсе ничего не значило, что шла война. По его понятию, мудрость в таком мужском противостоянии заключалась в непризнании при этом никакой своей неправоты, что бы ни случилось; причем он не исключал из этого и даже факта своей супружеской неверности, о чем Яна доподлинно знала (он переспал с ее родной сестрой). Ну и что такого! В его саморассуждениях на этот счет в том, конечно же, могла быть виновата лишь жена: она сама допустила промах. Она ведь прекрасно знала, что он, молодой горячий мужчина испытывал постоянную физическую неудовлетворенность в постели с ней, однако оставалась ледышкой театрализованной, экзальтированной почитательницей искусства – с ахами, с вздохами попусту, умилением перед чем-то ненастоящим, напридуманным кем-то.
Да что возьмешь от женщины упрямо-глухой, нелюбвеобильной? Хотя и очень порядочной, разумной: она пока жила без скрипучего комплекса-желания пугать разводом. Была в том бессмысленность? Она оказалась как-никак старше Павла на пять лет, отчего вроде бы и оказалась привязанной к нему, если не навечно, то наверняка надолго. Добровольно, выходит, привязанной. Как в наказание.
И Павел это однозначно и хорошо усвоил. Наверное, еще потому-то он с каких-то пор вполне освоился с ролью некоего командира в своей семье и потому-то считал себе вправе поступать и думать, и судить-рядить, повышая голос, по своему хотению, а правоты жены никак не признавал (лишь иногда), так как в большей степени замечал ее бестолковость в делах будних, ежедневных. По его мнению, она сильна была в теории, а не в практике, что вовсе не одно и то же – никак несравнимо.
– Вот заботушка у нас хуже губернаторского, – сказала Яна при сборах в отъезд. – Только бы не попасть нам, Павлуш, в пекло, не обмишуриться… Пообомнут тогда нам бока.
– Лихо – не впервой, не боись, – успокоил Павел. – Пообомнемся чуть – ну и что из того? Лишь бы не смертельно… Если что – вернемся. Забираться далеко не будем.
– «Дай черту палец, он и руку откусит», – немцы говорят. Верно про себя самих. Вон как они враз порешили чехов, поляков, бельгийцев и французов. Заграбастали… Не шутили…
– Слушай, мать: не ломай ты голову над мировыми проблемами. Сами верхи не могут разобраться. Я сказал: вернемся в случае чего… Я решил – и перерешовывать не буду!
– Ты же, Павлик, извини, удивляешься на поступки немцев-нелюдей, а ведь сам бываешь неправ, что знаешь хорошо, но действуешь по неправоте, не исправляешься, – уколола она его по-тихому, и он даже осекся, притих. Хлупал глазами.
– Успокойся! Не сопи!
Яна язык пожевала, и все, как бывало при праведном гневании Павла. Поджала губы, знавшие мало помады (и без того были хороши). Не сопротивлялась долго. Трясла кудряшками вороновых волос. Бессильная. Она чаще, огрызаясь для порядка, безуспешно – воспитательно призывала мужа к благоразумию и смирению – качеству характера, которое он не признавал.
Однако Павел нисколько не обеспокоился, когда они фактически спонтанно – наугад сразу поехали на поиски подходящей дачки, ничего заранее не разведав, не прикинув, что и как, уже с Московского вокзала. Это Павел мог позволить себе: на него, как на незаменимого специалиста на военном заводе, распространялась известная бронь, автоматически освобождавшая его от призыва на службу в армию; он вследствие этого находился при семье по месту жительства (пока здесь существовал завод) – существеннейшая, значит, поблажка для него, позволявшая ему не бояться резких осложнений в жизненных обстоятельствах, пока действует эта бронь. Так что по этому поводу он, разумеется, покамест не напрягался умом излишне. Все у него шло еще не худо. А предвидеть нечто существенное в жизни ему не было дано. Отнюдь.
Где-то второпях какой-то добряк надоумил их доехать до местечка Нечеперть, что они и сделали. Здесь высыпали из вагона как горох из стручка. Очень скоро и задешево сняли приличную комнатушку в доме местного приветливого финна, очень, видать, хозяйственного мужика, странно уверенного в себе по нынешним суровым временам. На вид он был здоровым, как початок спелой кукурузы против квелых приезжих горожан-заморышей, еще нисколько не обветренных, не то, что подрумяненных.
Непередаваемая прелесть зеленого окружья изб, сараев, извивы атласных участков и полей с цветными пятнами перемещавшейся скотины тотчас оживило Павла, который распрощался два десятка лет назад с такой же нивой и уютом в родном новгородском селе Грибули, и так всколыхнуло его воспоминание о том. До боли. Ему сразу все понравилось. Сама местность и достойный вид местных жителей его как-то успокаивали. Он словно не случайно привез с собой верный патефон с набором любимых пластинок с замечательными лирическими песнями, исполненными большими советскими артистами. Степины еще не успели разложить все вещи в комнате, а он, Павел, уже завел первым делом патефон, запетушился небеспричинно. Глаза у него заблестели азартно. Как же!
Взросла, обжигающе хороша собой была синеглазая дочь хозяев Лайла, ходившая так мягко, легко, точно летавшая, не проминавшая и травинок, радужно вступающих в свет.
Лайла частенько потом просила лепечущим голоском поставить на патефонный диск пластинку с песней либо Козина, либо песню Шульженко «Синий платочек», либо романсы Церетели. Причем она и сама полунапевала иной раз, заряжая настроение присутствующих. Как нечто несбыточно-трогательное в эти дни звучали слова романсов:
«О, милая, не жди меня напрасно
Поймешь прекрасно…»
«Снова пою
Песнь свою
Побудь со мной…»
Это-то все было, когда уже в отдалении и здесь слышно голосили женщины по отправлявшимся на фронт призываемым защитникам страны. Причем парадоксально было то, что по тем мужчинам и парням, которые уходили добровольцами, никто из женщин не голосил подобным образом.
Особенно никогда не задумывающийся ни о чем светловолосый Павел, свойский в общении со всеми, форся в белых брюках и поглядывая в вожделении на местную красавицу Лайлу, только облизывался и сам подпевал. Он не стеснялся никого и ничего. А непредсказуемость событий, ожидание чего-то и новое ощущение величия внегородского пространства сближало его с людьми больше, словно он почувствовал перед собой какой-то открывшийся простор, им неведомый еще. Как контраст с чем-то узким, реальным, насильственно-искусственным.
XXI
Сутуловатый и точно плоский паклеобразный отшельник-старик, писатель Виктор Андреевич, в холщовых брюках, в блеклой блузе, перебирая посошком, неспешно вышел из-за поворота утолоченной тропки среди кипевшего цветом разнотравья и нимало удивился уловленным его слухом плывшим тихим напевным звукам. Их превышали только шлепки звуков «дзынь», «дзынь», исходящие от мгновенного пролета над ухом пчел. Стало можно разобрать: мужской голос напевал себе знакомый романс:
«Живет моя отрада
В высоком терему
А в терем тот высокий
Нет входа никому…»
Это напевал, возвращаясь сюда, на дачу, Степин, который мысленно решал с самим собой вроде бы всерьез дилемму: свернет ему шею финн, или не свернет, если что… Самоосуждая-таки затем степень пагубности своего желания, Павел несколько увлекся, а потому и не сразу заметил шествующего вниз затворника-старикана. Павел, заметив Виктора Андреевича и перестав напевать, намеренно-упреждающе отсторонился; он хотел пропустить того, находившегося, можно было сразу увидеть, в удрученном состоянии, с почему-то вопрошающим взглядом из-под косматых бровей. Виктор Андреевич был не то, что замкнут, сердит, даже и не выбрит. Что было очень заметно на сближении при дрожащем от тепла солнечном освещении. Однако он, почти приветливо здороваясь, знаком сухой руки, которой исписывал листки своих романов, остановил Павла:
– Скажите… Павел…
– Ну?
– Откуда?
– Съездил на работу, – уклончиво ответил Павел. – Отзывают из отпуска меня.