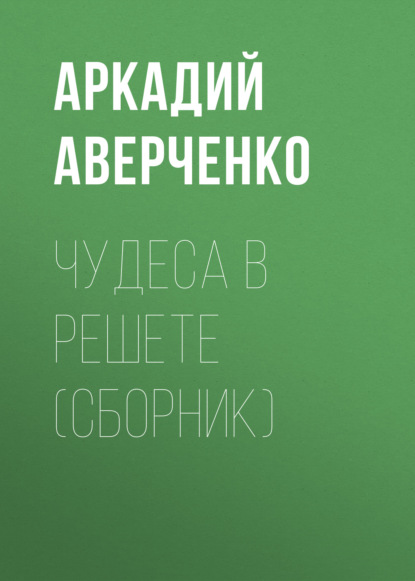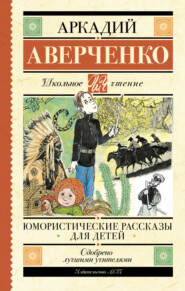По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чудеса в решете (сборник)
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так-с. Стоило только, чтобы прошло несколько лет со дня смерти – и уже забыт! И уже никому не интересен! Забвен от людей! Ну, давайте за все десять рублей.
– Не дам.
– Ну, пять!
– Нет.
– Что ж… и рубля жалко? Ведь салфетка новехонькая. Ее только ежели выстирать…
– Рубль я дам. Но только салфетку забирайте. Не нужно.
– Вот за это мерси! И сахарок я уж возьму. А спички и билет – ваши. Будем считать спички по двугривенному, a билет за шестьдесят.
Когда он уходил, я вышел его провожать.
– О, не затрудняйтесь, – замахал он руками.
– Нет, почему же. Тут, кстати, висит мое пальто.
– Что ж из этого следует? – прищурился он.
– Да то, что я слишком скромен для всего этого. Чеховианцем вы можете быть, a аверченковианцем вам делаться не следует.
– Подождем! – загадочно сказал он, уходя.
И неизвестно было, чего он хотел ждать: того ли, чтобы я сделался известным, того ли, чтобы прислуга когда-нибудь оставила парадную дверь открытой?
Бедный Чехов! Десять лет тому назад тебя привезли в вагоне для устриц, и нынешние «юбилейные» дни проходят под тем же нелепым знаком нелепой устрицы.
Самоновейшие воспоминания о Чехове
I. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова
– Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство.
Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? Стыдно врать, девушка. Такая молодая и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит.
Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего… Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается.
– Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете и я пишу. Помешал? Пишете? Ну, ничего. Отдохнете. Вам же и полезно – вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало, гулять больше. А работа не уйдет. Посидим, поболтаем… Ну, расскажите что-нибудь о себе… Голова болит? Это от работы.
Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик, и готово!
Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был. Сто печатных листов, полтораста.
Послушайте, Антоша… (вы позволите мне вас так называть?) Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь… Роман, что ли. А то так – что же…
Ведь физиономии не видно! Пишет, пишет человек, a физиономии и нет.
Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но милый мой! Нужно же идти вперед.
Да! Был со мной вчера случай – совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штуки хорошо делаете. Вот – изобразите: еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы – хлоп! А на земле лужи после дождя. Шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу – хлоп! В это время одна барыня и проходи мимо. Я ее грязью из лужи – хлоп! Все платье! Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку!.. Собака удирать, барыня орет, я чищу шляпу – шум, гам. У вас это хорошо выйдет.
Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах, да… Простите. И забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать.
Чуть не забыл! Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью. А я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил: «Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни, Чехову – Деревянкин». Вы замечаете эпическую простоту последних слов.
Кто такой Чехов? Не нужно объяснять – все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять – все знают.
А вы напишите так на карточки: «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни – от певца сумерек. Деревянкину – Чехов». Понимаете? Наоборот.
Неудобно? Почему неудобно? Странно… Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критика называет. Пишите, пишите. Вот вам перо.
Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверно, своей болтовней? Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть еще пять минут? Посижу, посижу.
Ну, что бы вам еще такое рассказать? Кстати! Тема у меня есть для вас… я вам дам только канву, a уж вы там… размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки… И появляется на горизонте молодой человек Островерхов! Понимаете? Ну, влюбляются… А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать… Но та на него – нуль внимания, пуд презрения – спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось, – обобрал ее Драбантов и бросил! Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас… Вы уж эту коллизию распутайте сами. Что? Ах, я и забыл, что нельзя курить… Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да, да. «Просят не курить». Ну, не буду. Докурю и брошу.
А анафемская эта штука – туберкулез. У нас один учитель чистописания… Куда же вы? Послушайте!..
Ушел… Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих «имен». Слушай, Глаша! Как? Катя? Все равно. Послушай, Кэтти, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим… Наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага… Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату…
– Антонеско! Здесь вы? Ишь ты куда забрался… Что это вы удрали так сразу? Ну, да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии… Вы полежите, a я около вас посижу… Поболтаем… Скажите, что такое вышло с вашей «Чайкой?» Говорят, прежестоко провалилась… Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон, когда у меня провалились в Останкине «Зовы женского сердца» – что ж, я страдал или нет? Нет! Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок-Ухватовым, что до сих пор на шее два шрама… Водевиль мой: «Ах, ах, Матреша, что же это такое?» – так освистали, что до сих пор в ушах шум… Нет, пьесы – это чепуха! Нужно роман писать…
Что? Голова болит? Я вам еще не надоел своей болтовней? А? Что? Почему же вы молчите? Послушайте! Я спрашиваю: a вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну ладно. Посидеть еще две минуты, вы говорите? Ну, посижу.
Ах, да! Еще одна тема у меня для вас есть… Что? И тут нельзя курить? Почему? Тут же нет плаката! Ну, извините. Не знал. Не буду. Докурю и брошу.
Куда же вы? Антон Павлыч! Антонелли! Антонио!.. Ушел… Вот непоседа!
Послушай, Миликтриса Кирбитьевна! Где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага! Спасибо.
– Послушайте, вы, чудачина… Что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, a у вас чахотка… Вот оригинал: сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка…
– О чем я, бишь, начал тогда? Ах, да! Тема для вас есть. Как раз в вашем духе… Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал… Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую… Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки!..
– Что это вы? Заснули? Послушайте… А зачем же лицо руками закрывать… Плачет! Вот чудак… С чего это вы! Ведь мужик же не умер, a пошел себе как ни в чем не бывало по своим делам… Вот чувствительная душа-то! Плачет… Ну, успокойтесь Антонио, Антонаки! Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте… Я вам не надоел, а? Вы скажите… Если надоел, я уйду.
Молчит… Вот чудак-то! Антуан! Чего же вы молчите? Я спрашиваю – надоел я вам? А? Оригинал! Как я его своим мужиком расстроил… Молчит, a слезы по лицу текут…
– Антонеско! Куда ж вы! Господи! Опять ушел… Прямо даже обидно.
– Повар, послушайте… Эй, как тебя… Красная рубаха! Вы не повар? А кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлыч?
На конюшню?.. Что только этот человек может выкинуть! Где его там найти, кучер?
А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди! Нет? А тут? За мешками? Нет?
Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху… Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую!
– Не дам.
– Ну, пять!
– Нет.
– Что ж… и рубля жалко? Ведь салфетка новехонькая. Ее только ежели выстирать…
– Рубль я дам. Но только салфетку забирайте. Не нужно.
– Вот за это мерси! И сахарок я уж возьму. А спички и билет – ваши. Будем считать спички по двугривенному, a билет за шестьдесят.
Когда он уходил, я вышел его провожать.
– О, не затрудняйтесь, – замахал он руками.
– Нет, почему же. Тут, кстати, висит мое пальто.
– Что ж из этого следует? – прищурился он.
– Да то, что я слишком скромен для всего этого. Чеховианцем вы можете быть, a аверченковианцем вам делаться не следует.
– Подождем! – загадочно сказал он, уходя.
И неизвестно было, чего он хотел ждать: того ли, чтобы я сделался известным, того ли, чтобы прислуга когда-нибудь оставила парадную дверь открытой?
Бедный Чехов! Десять лет тому назад тебя привезли в вагоне для устриц, и нынешние «юбилейные» дни проходят под тем же нелепым знаком нелепой устрицы.
Самоновейшие воспоминания о Чехове
I. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова
– Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство.
Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? Стыдно врать, девушка. Такая молодая и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит.
Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего… Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается.
– Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете и я пишу. Помешал? Пишете? Ну, ничего. Отдохнете. Вам же и полезно – вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало, гулять больше. А работа не уйдет. Посидим, поболтаем… Ну, расскажите что-нибудь о себе… Голова болит? Это от работы.
Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик, и готово!
Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был. Сто печатных листов, полтораста.
Послушайте, Антоша… (вы позволите мне вас так называть?) Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь… Роман, что ли. А то так – что же…
Ведь физиономии не видно! Пишет, пишет человек, a физиономии и нет.
Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но милый мой! Нужно же идти вперед.
Да! Был со мной вчера случай – совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штуки хорошо делаете. Вот – изобразите: еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы – хлоп! А на земле лужи после дождя. Шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу – хлоп! В это время одна барыня и проходи мимо. Я ее грязью из лужи – хлоп! Все платье! Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку!.. Собака удирать, барыня орет, я чищу шляпу – шум, гам. У вас это хорошо выйдет.
Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах, да… Простите. И забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать.
Чуть не забыл! Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью. А я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил: «Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни, Чехову – Деревянкин». Вы замечаете эпическую простоту последних слов.
Кто такой Чехов? Не нужно объяснять – все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять – все знают.
А вы напишите так на карточки: «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни – от певца сумерек. Деревянкину – Чехов». Понимаете? Наоборот.
Неудобно? Почему неудобно? Странно… Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критика называет. Пишите, пишите. Вот вам перо.
Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверно, своей болтовней? Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть еще пять минут? Посижу, посижу.
Ну, что бы вам еще такое рассказать? Кстати! Тема у меня есть для вас… я вам дам только канву, a уж вы там… размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки… И появляется на горизонте молодой человек Островерхов! Понимаете? Ну, влюбляются… А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать… Но та на него – нуль внимания, пуд презрения – спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось, – обобрал ее Драбантов и бросил! Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас… Вы уж эту коллизию распутайте сами. Что? Ах, я и забыл, что нельзя курить… Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да, да. «Просят не курить». Ну, не буду. Докурю и брошу.
А анафемская эта штука – туберкулез. У нас один учитель чистописания… Куда же вы? Послушайте!..
Ушел… Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих «имен». Слушай, Глаша! Как? Катя? Все равно. Послушай, Кэтти, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим… Наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага… Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату…
– Антонеско! Здесь вы? Ишь ты куда забрался… Что это вы удрали так сразу? Ну, да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии… Вы полежите, a я около вас посижу… Поболтаем… Скажите, что такое вышло с вашей «Чайкой?» Говорят, прежестоко провалилась… Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон, когда у меня провалились в Останкине «Зовы женского сердца» – что ж, я страдал или нет? Нет! Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок-Ухватовым, что до сих пор на шее два шрама… Водевиль мой: «Ах, ах, Матреша, что же это такое?» – так освистали, что до сих пор в ушах шум… Нет, пьесы – это чепуха! Нужно роман писать…
Что? Голова болит? Я вам еще не надоел своей болтовней? А? Что? Почему же вы молчите? Послушайте! Я спрашиваю: a вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну ладно. Посидеть еще две минуты, вы говорите? Ну, посижу.
Ах, да! Еще одна тема у меня для вас есть… Что? И тут нельзя курить? Почему? Тут же нет плаката! Ну, извините. Не знал. Не буду. Докурю и брошу.
Куда же вы? Антон Павлыч! Антонелли! Антонио!.. Ушел… Вот непоседа!
Послушай, Миликтриса Кирбитьевна! Где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага! Спасибо.
– Послушайте, вы, чудачина… Что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, a у вас чахотка… Вот оригинал: сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка…
– О чем я, бишь, начал тогда? Ах, да! Тема для вас есть. Как раз в вашем духе… Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал… Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую… Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки!..
– Что это вы? Заснули? Послушайте… А зачем же лицо руками закрывать… Плачет! Вот чудак… С чего это вы! Ведь мужик же не умер, a пошел себе как ни в чем не бывало по своим делам… Вот чувствительная душа-то! Плачет… Ну, успокойтесь Антонио, Антонаки! Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте… Я вам не надоел, а? Вы скажите… Если надоел, я уйду.
Молчит… Вот чудак-то! Антуан! Чего же вы молчите? Я спрашиваю – надоел я вам? А? Оригинал! Как я его своим мужиком расстроил… Молчит, a слезы по лицу текут…
– Антонеско! Куда ж вы! Господи! Опять ушел… Прямо даже обидно.
– Повар, послушайте… Эй, как тебя… Красная рубаха! Вы не повар? А кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлыч?
На конюшню?.. Что только этот человек может выкинуть! Где его там найти, кучер?
А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди! Нет? А тут? За мешками? Нет?
Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху… Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую!