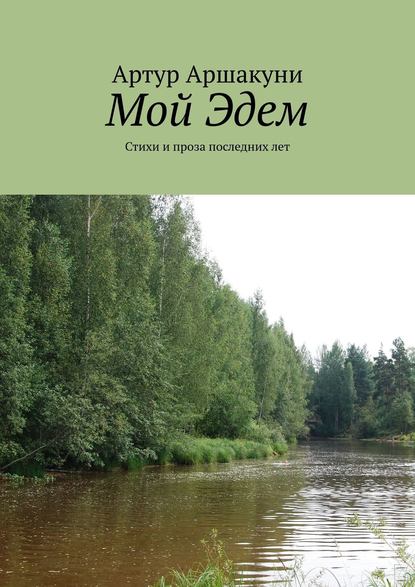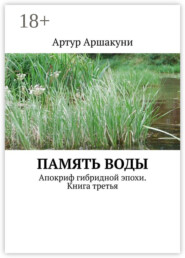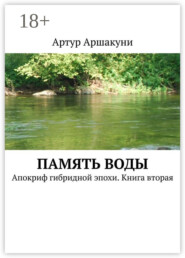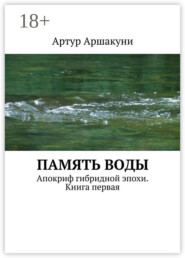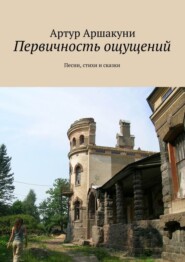По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой Эдем. Стихи и проза последних лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За Олегом по левую сторону переулка было пустое пространство, а дальше жили цыгане, тетя Таня с мужем Евграфом, но жили тихо, не шалили.
А по правую руку первым был участок дяди Юры и тети Марины. Они приезжали только на лето и жили незаметно, как сверчки за печкой. Вечерами у них на веранде до утра горел свет. Раз Нюшка увидела, как тетя Марина лежит в гамаке перед верандой и кормит титькой младенца, а дядя Юра сидит на ступенях веранды и чистит картошку.
За ними находился участок дяди Автандила, то ли грузина, то ли армяна, но очень доброго, даром что нерусский. А дальше жили Писатель (так его все называли) с женой Татьяной Аркадьевной (Нюшке и в голову не приходило назвать ее тетей), и дядя Витёк, с женой, кругленькой и ладной тетей Ангелиной.
За дядей Витьком было большое пустое пространство, поросшее тимофеевкой и клевером, но про то разговор впереди. Ну, а последней было изба в два этажа – Нюшкина, стало быть. И частенько летним погожим вечером до остальных участков в переулке из этой избы доносилась песня: дедУля совсем не старческим и надтреснутым, а неожиданно молодым и чистым голосом выводил:
Красных сосен шали,
Серый плед осин[2 - Приводится отрывок из стихотворения А. Караушина «Морошка» (прим. автора).]
А бабУля тоже даже не подпевала, а вторила звонко и певуче, по-женски:
Северные дали,
Выцветшая синь…
И исполнение их напоминало работу столяров-краснодеревщиков: дедУля, значит, вырезал из какого-нибудь благородного ясеня что-то витиеватое, а бабУля полировала это что-то и покрывала прозрачным, мерцающим в полумраке лаком.
Значит, так и жила Нюшка с дедУлей и бабУлей, а также собакой Облаем и котом Степаном Митрофанычем.
Степан Митрофаныч был степен, немолод и больше всего любил принимать величавые позы на глазах изумленных зрителей. Особенно ему нравилось, когда им громко восхищались. Впрочем, иногда Степан Митрофаныч решал напомнить, кто есть кто в доме и устраивал мастер-класс по ловле мышей. На это у него уходило столько же времени, сколько человеку, чтобы выйти из дома до ветру и вернуться обратно. Он оставлял задушенную мышь в сенях и возвращался на свое место с ленивой грацией сутенера, контрабандиста или профессионального убийцы.
Облай, напротив, являл собою полную противоположность Степану Митрофанычу. Во всем, включая свое предназначение в этом мире, наисобачьем из всех возможных. Очевидное недоразумение, произошедшее между мамой-таксой и папой-фокстерьером, Облай компенсировал преданностью и рвением, переходящими в идолопоклонство язычника. С незамутненной простотой невежды он решил опровергнуть законы квантовой механики, запрещающей материальному объекту находиться в нескольких местах одновременно. И это ему почти удалось, особенно когда Нюшка выходила с ним во двор. Тогда ей доставался либо клубок собачьих лап, ушей и хвостов, а лай за углом, либо лай прямо перед ней и клубок лап, хвостов и ушей где-то за углом.
Что до дедУли с бабУлей, так их называла одна Нюшка. Для посторонних же они были – Ульян Захарыч и Ульяна Никитична.
2.
Так вот, дедУля, когда он еще не был дедУлей, а был Ульян Захарыч, строил всех вокруг себя в радиусе пятнадцати метров. Даже цыган соседских по переулку приучил перед каждой поездкой сообщать ему о целях и продолжительности поездки, а по возвращении докладывать, все ли в порядке. Жизнь ломала его, кудрявого да черноусого, много лет, а он все похохатывал, сверкая белозубой улыбкой. Тогда она, подлюка, зашла с другой стороны. Когда пришла Ульяну Захарычу пора оформлять пенсию, девица с оловянными глазами и безуспешно выводимыми мужскими усиками, сидящая за стеклом в пенсионном фонде, долго шуршала его бумагами с отлитой в них человеческой жизнью с восходами и закатами, дождями и метелями, женской любовью и рождением первенца, и работой, работой, работой, – нажимала кнопки калькулятора и клавиши компьютера и объявила, наконец: по первой части его стажа, где сплошные трудодни, для их подтверждения не хватает какой-то заковыристой бумажки с очень редкой разновидностью печати, в наше время уже не встречающейся. Что же касается второй половины стажа Ульяна Захарыча, то он должен помнить, сколько раз завод менял собственника. А в нулевые, как помнит уважаемый Ульян Захарыч, заводоуправление сгорело вместе с архивом. Нет, конечно, все в поселке знают, кто такой Ульян Захарыч, и что он делал на заводе. Но вот комиссии из Москвы это не известно, ей нужен документ. А документа нет. В списке юридических лиц сгоревшее акционерное общество закрытого типа не значится.
– Так, – улыбнулся ей Ульян Захарыч. – И?..
Девица, отведя глаза в сторону, объявила, что подтвержденного стажа Ульяна Захарыча хватает, чтобы поднять ему пенсию выше минимальной, до восьми тысяч рублей в месяц.
– Спасибо, доча, – сказал ей Ульян Захарыч. – Хорошего тебе мужа и здоровых детишек.
И пошел прочь, улыбаясь красивым девушкам по пути и подмигивая замужним женщинам.
У пенсионеров в поселке был один способ приработка – охранником в магазине. Когда Ульян Захарыч попытался устроиться в магазин стройтоваров, первое же посещение поликлиники выявило у него перенесенный на ногах инфаркт. Узнав про то, Ульяна Никитична легла на амбразуру, запретив ему думать о работе. Она выиграла сражение, но проиграла войну. Потому что, уйдя на пенсию, дедУля с головой окунулся в домашнее хозяйство. С утра до вечера он беспрерывно что-то пилил, строгал и вытесывал на заднем дворе, где оборудовал что-то вроде летней мастерской.
Судьба тогда обиделась на него за такую непочтительность. Не затем она судьба, чтобы жить, ее не замечая. Какое-то время она выжидала, выбирая, куда нанести удар, чтобы побольнее.
Ну, и нанесла.
Сын. Андрюха. Андрей Ульянович.
Внешне это никак на дедУле не отразилось. Он все так же с утра до вечера тюкал топором, стучал молотком, жужжал дрелью и визжал шуруповертом. Разве что стал чаще присаживаться на отдых и стал ходить с палочкой – не потому что нуждался в ней, а просто Андрюха когда-то со смехом сделал ему пенсионный подарок, стариковскую палку, чтобы никогда, как говорится, не понадобилась.
Еще Андрюха отдал перед отъездом дедУле свой второй мобильник. Так дедУля с ним носился, как курица с яйцом – носил при себе, поминутно смотрел на дисплей, исправно заряжал, оплачивал каждый месяц. В общем с тех пор тараканы в его голове и зашевелились.
Нюшка первая заметила, что дедУля ощупывает каждый гвоздь перед тем, как приложиться молотком, и сказала об этом бабУле. Та всполошилась, потащила дедУлю в местную поликлинику, а оттуда – в город, в федоровскую, глазную, где симпатичные кобылицы, затянутые в стильные голубые халатики, полдня танцевали вокруг него медленный эротический танец, а потом объявили, что у дедУли какая-то мудреная глазная дистрофия, которую нельзя излечить, а можно только замедлить – уколами прямо в глаз, количеством чем больше, тем лучше, но самое меньшее по три в каждый глаз, по сорок тыщ рублев за укол.
– Стало быть, всего двести сорок тыщ? – уточнил дедУля. – А почему не миллион, красавицы? Чтобы мне интереснее было вас послать в жопу?
И вернулся к себе, а бабУля плелась за ним всю дорогу и пилила, но это больше для самоуспокоения.
– Ложку я мимо рта не пронесу, – сказал он по возвращении Нюшке, – и тебя с бабкой не перепутаю – ее, брат, ни с кем не перепутаешь.
Дома бабУля отыгралась по полной, запретив дедУле и близко подходить к инструментам. К этому моменту сводить концы с концами стало совсем тяжело, так что дедУля смирился, начав потихоньку распродавать инструменты. В поселке было ателье по ремонту, где приторговывали подержанным, но исправным инструментом, так что электролобзик или шуруповерт шли там на ура.
Во все этом проступали явные признаки ненормальности. Соседи по переулку, да и вообще все, кто знал Ульяна Захарыча, недоумевали, как неглупый с виду и умудренный годами человек мог докатиться до распродажи собственного имущества. А дело в том, что Ульяну Захарычу и Ульяне Никитичне полагалась от государства компенсация за тот окаянный самолет. А за сына и невестку – двойная! По всем ящикам тогда трубили, что решение принято и деньги выделены. Тут бы деду и подсуетиться. И сосед, Витёк, когда Ульян Захарыч, ссылаясь на слабые ноги, просил сдать за него бензопилу или набор японских сверел в ателье, заговаривал с ним об этой коменсации. Дед притворился глухим и вопрос игнорировал. А года три назад Витёк пришел к старикам в дом поговорить об этом. Нюшка как раз играла со Степаном на крыльце; Облая и в помине тогда не было.
Дед выслушал Витька, а потом поднялся, тяжело опираясь на палку, во весь свой немалый рост.
– Я за сына с протянутой рукой к ним не пойду, – сказал он и постучал палкой в пол, так что дом загудел от нижних венцов до чердака. – Дадут – возьму. Не дадут – пусть идут в жопу.
А Ульяна Никитична в это время перебирала на столе какие-то листочки-корешочки, и непонятно было, понимает она, о чем речь, или тоже вполне себе безумна.
С тем Витёк и ушел, хотя деду продолжал помогать, как мог.
Тогда же у дедУли родилась идея посадить на поле между их избой и переулком картошку, чтобы жить стало лучше и веселее, и договорился с Витьком. Витёк пригнал свой заковыристый японский культиватор и попробовал вскопать поле. Из земли полезли битые горшки да фаянсовые чайники, а под конец венцом абсурда – ржавая кровать с панцирной сеткой. Оказалось, что тут цыгане втихаря устроили себе помойку, выбрасывая в крапиву все, что им не нужно. ДедУля не сдался, неделю еще прокапывал поле вручную и посадил-таки в первый же год картошку. Какой-то заковыристый сорт выписал, аж из откуда-то. Типа синеглазки. И что вы думаете? В первый же год налетел на поле колорадский жук. Да сколько! Тьма-тьмущая. ДедУля с бабУлей попробовали было повоевать с ним. Куда! А потом дедУля сдался и попросил Витька заборонить все поле к такой-то матери. И засеял его клевером, да не простым, а красным. С тех пор приходить к ним в гости стало приятно, по клеверному-то полю, да ходить в гости было некому. Поле стало клеверным, но называлось по-прежнему картофельным. Здоровое чувство юмора у старикана.
У Нюшки, кстати, с тех пор память и зажглась, как лампочка, с нашествия колорадского жука. До того все в разрозненных отрывках, а с этого момента пошло непрерывным потоком, как будто кто толкнул ее в бок, и она проснулась.
Когда кончились ценные инструменты, дедУля перестал заниматься хозяйством и даже выходить из дома, а целыми днями сидел на сказке и смотрел телевизор без звука.
Сказка – это для Нюшки сказка. А вообще это сундук, сделанный в те благословенные времена, когда мастер создавал вещь на несколько поколений вперед, не считая красоты, конечно. Сундук был сделан еще до революции из аккуратных планок, покрытых вишневым лаком, обит по углам сталью и обтянут для прочности стальной полосой. Открывался он действительно каким-то сказочным ключом – ажурным, массивным, который хранился у бабУли под подушкой.
В сказке хранились вещи, привезенные дедУле с бабУлей из-под Смоленска, где прошла первая половина их жизни, в большом совхозе на несколько тысяч дворов, где дедУля, а тогда Ульян Захарыч, работал начальником машинно-тракторной станции, а бабУля, тогда Ульяна Никитична, – медсестрой в местной амбулатории. В сундуке хранился аккордеон в футляре: дедУля в молодости был затейник и имел музыкальный слух. Аккордеон был импортный, трофейный, немецкий, невероятно красивый и напоминал большую елочную игрушку. Еще в сундуке была пожелтевшая газета со статьей о Андрее Лукьянове, о том, как он доблестно несет милицейскую службу, и фотография его – в новенькой форме, рот до ушей, чубатого да конопатого. А еще в сказке хранились саяны. Саян – это платье из льняного полотна, которое шьют себе девушки к приданому, украшенное вышивкой, жемчугом и серебряной нитью. Обычно шьется три саяна – один на мелкие праздники вроде Первомая да седьмого ноября, другой – себе на день рождения да на Новый год, и третий, самый торжественный – на свадьбу, на крестины ребенка, на день рождения мужа да на день Победы.
То, что рассказывали дедУля с бабУлей о своей смоленской жизни, было так непохоже на окружающую Нюшку действительность, что самым уместным было слово «сказка». Даже слово «Смоленск» было для Нюшки веселым. В нем потрескивали березовые поленья в печи, а из трубы вился даже не дымок, а особый дух, который обозначает человеческое жилье, уют и мир, то есть, все, что объемлется словом «покой». И покойнее всего Нюшке было, когда дедУля с бабуУлей сидели рядышком и выводили:
Голуби-голубы
По небу летят.
Северные губы
Жгут и холодят[3 - См. прим. на стр. 66 (прим. автора).].
Нюшке нравилось сидеть на кровати рядом с разложенными из сказки вещами, саянами да аккордеоном. А ежели дедУля еще и футляр расщелкнет, то совсем хорошо: можно водить пальчиком по перламутровой, как бы светящейся изнутри поверхности, под непрерывные и бесконечные рассказы дедУли. Или разглядывать расшитый по вороту, рукавам и подолу жемчугом саян, прохладной тяжестью ложащийся на руку.
– Приехали мы, стало быть, в село, – рассказывает дедУля.
О чем это он? Какое село? Заканчиваться должно счастливо.
– Повели нас на берег реки, к проруби. А там бревна рассыпаны. Разобрали мужики бревна из воды, а к ним на цепях да на веревках бочка просмоленная. Отвязали они эту бочку да в село привезли. А как вышибли у ней дно, полна бочка оказалась огурцов, да каких! Малосольных, как будто вчера спроворены. Махонькие, один к одному. В феврале! И без всяких холодильников да морозильников, вот как. Только, – огорченно добавляет дедУля, – съисть их надо побыстрее, потому как через два дня пожелтеют.[4 - Такой способ консервации малосольных огурцов действительно существовал в северо-западных областях России (прим. автора).]
Нюшка звонко смеется, представляя, как полдеревни питается одними огурцами, чтобы не пожелтели. БабУля в это время вяжет носки, а Степан Митрофанович лежит между ними, не веря своему счастью.
Или, скажем, в другой раз дедУля вспоминал, как он познакомился с бабУлей: увидел новую медсестру в амбулатории и на следующий день помчался туда же – делать предложение. Ну, натурально надел чистые портки, белую нейлоновую рубашку и помчался в амбулаторию.