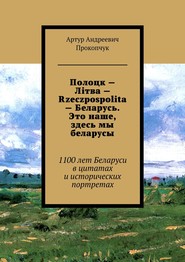По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беларуская рапсодия. История семьи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что это, опять снег? Там, за окнами вагона, плывут белые сугробы, высотой с большие, многоэтажные дома, вокруг которых суетятся люди в пестрых халатах и платках на голове. Жарко, хотя окна в вагоне открыты. Горячий воздух врывается в вагон и заносит к нам в купе белые пушинки. Это хлопок, это хлопковые горы, а за ними настоящая гора, закрывающая половину неба. Поезд идет прямо к ней, а гора уходит в сторону, исчезает и появляется с другой стороны. Плавный ход поезда прерывается, вагоны вздрагивают, кажется, что поезд едет по булыжной мостовой, лязганье – очередной разъезд. Я выскакиваю из вагона, к насыпи бежит орава детворы, перемазанная грязью, в непонятной одежде, сверху которой развевающиеся рваные полы полосатых халатов. Мальчика от девочки не отличишь. Они облепляют подножки вагонов и, толкая и оттесняя друг друга, гомонят, протягивают к пассажирам ладошки, просят: – Чай, чай, чай! Некоторые бросают им монетки. Паровоз гудит, мы бросаемся в вагоны, поезд, а вместе с ним и горы поехали снова друг с другом наперегонки. Часа через два гора вдруг выныривает откуда-то сбоку и оказывается прямо напротив вагона, некоторое время движется вместе с ним в ту же сторону, потом неожиданно уходит и на ее месте появляется широкая, ржавого цвета река, потом, потом дома. Поезд проскакивает мимо базара с желтыми дынными и зелеными арбузными горками, замедляет ход и останавливается. Кажется, мы на месте, приехали – это Ленинабад. Громадный двор госпиталя, где «приняли на работу» маму. Во дворе – огромные, видимо, очень старые, с красивым названием, деревья – шелковицы, ветви которых закрывают улицу, вернее, не улицу, а улочку, узкую, скрюченную, всегда безлюдную. Улочка сдавлена с обеих сторон грязно-белыми глинобитными глухими стенами. Мы, то есть я и еще несколько таких же, как я, «эвакуированных», на улицу редко выходим и обычно с утра сидим на ветвях этих громадных деревьев. Одно дерево «на брата». Искривленные толстые ветви шелковиц поднимаются к небу. Сидя на самом, куда только можно добраться, верху, я с высоты трехэтажного дома осматриваю свои владения, не переставая набивать рот сладкими до приторности ягодами. Черные снаружи, похожие на обрубленные пальцы, чуть искривленные, большущие ягоды кровоточат в моих руках. Вкуснее их я ничего еще не пробовал. Приторная сладость, чуть приправленная иногда кислинкой – постоянное ощущение бесконечного счастья и свободы. Сколько можно их съесть – неизвестно, так как едим мы их с утра до вечера. Изредка кто-нибудь из родителей прерывает это пиршество. Ягоды на деревьях не истощаются, объесть даже одно дерево немыслимо, наверное, их столько же на дереве каждое новое утро. Это мне непонятно, как непонятна бесконечность серебристой шелковой нити, подвешенной на деревянных рогаточках и тянущейся вдоль всех глинобитных стен, вдоль арыков, по которым бежит вода, по всей улице. Я уже пробовал, можно идти и идти, хоть целый час, а сверкающие на нити не кончаются. Боясь заблудится, мне приходилось возвращаться. Нити не имели конца, уходили в бесконечность, и лето здесь было такое же, бесконечное, как эти нити. И жизнь здесь началась когда-то очень давно и не имела конца. И быстрая глинистая вода Аму-Дарьи бежала всегда, охраняемая обступившими ее горами…
Я все время бегаю босиком, в одних штанишках. Руки и рот не отмываются от темно-вишневого сока шелковицы. Боль в ступне забыта, пропитанный насквозь азиатским солнцем, как помидоры, что я таскаю тайком с огорода, примыкающего к госпитальному двору, вечером валюсь в изнеможении на кровать и не слышу, как меня раздевают. И все забываю еще раз поглядеть на звезды, открывшиеся мне так недавно. Соликамск, Урал – это где-то далеко, я забываю о его зимах, холодах, таких, что не выпускали на улицу, больничке в тайге, гипсовой ноге и боли в сердце. Только в руках у меня иногда появляется, переливающийся фиолетовыми цветами на солнце, кристалл калийной соли, который я выменял на что-то у мальчишки, отец которого работал на соликамском руднике.
Сталинабад, осень-зима 1944 года
Не помню, когда и почему мы переехали в Сталинабад, но в памяти от него осталось очень мало. Здесь нас временно поселили в здании медицинского института и таких соседей, как в Ленинабаде уже не было. Здесь было больше приезжих, а там вокруг жили таджики и узбеки, спокойные, ласковые. Там наши соседи часто приглашали меня и других мальчишек к себе во дворы и кормили, тайком от бабушек и мам, пловом, курагой, черносливом, лепешками, еще горячими, только что вынутыми из печи. И еще у наших соседей во дворе бегала девочка, моя ровесница, с «сорока» косичками, в вышитой золотом тюбетейке и с зажатой в кулачке горсточкой кишмиша.
Здесь и произошла моя первая и единственная встреча с отцом, произошла совсем неожиданно для меня, мама меня не предупредила, куда мы идем. Я только помню светлый силуэт отца, как на выцветшей старой фотографии, красновато-коричневую, глинистую землю и такого же цвета воду в арыке. Отец стоит в длинной рубахе с закатанными до колен штанами, босиком, с мотыгой в руках и смотрит не прямо на меня, а как-то вбок. Он такой большой, что его трудно оглядеть всего сразу. Я вижу его, словно через увеличительное, слушаю, он мне что-то говорит, объясняет, сбиваясь несколько раз, быстро, неприятно высоким для такого громадного человека голосом. Отец говорит, как-будто оправдывается, но я его не понимаю. Мне становится не интересно. Он говорит, говорит и, не примериваясь, точным ударом пробивает мотыгой земляной вал арыка, вода устремляется в брешь, еще пару ударов и струи теплой пенящейся воды заливают по узеньким канавкам всю бахчу. Сначала образуются острова, потом на моих глазах они уменьшаются, отдельные ручейки сливаются в озерца, и вот уже все заливает вода, становится даже прохладней от нее на этой жаре. Желания снова встретиться с отцом у меня больше не было. Целые дни, проведенные на воздухе с постоянно набитым фруктами или ягодами ртом, чувство абсолютной свободы лечили меня без вмешательства врачей. Я забыл об одышке, совсем перестал ощущать ноющую боль в ступне, позабыл об уральских зимних месяцах, проведенных в больничных палатах. Солнце прочерчивало в небе высокие арки, тяжело и нехотя поднималось в зенит, медленно сваливалось оттуда, плясало в глазах красными зайчиками и сразу же ныряло за край земли. Вечерами, напоенный за день солнечным светом, я лежал в постели, и мне казалось, что все мое тело светится в темноте красноватым светом, отдает впитавшееся за день солнечное сияние. Время здесь было вечное, как жизнь, которая пела мне на каждом шагу свою песню радости, а я восхищенный не уставал ее слушать. Часами я застывал на корточках, наблюдая за схватками скорпионов, ворошил палками осиные гнезда, улепетывал от рассердившегося роя, ловил в арыках вертких головастиков, пытался схватить за хвост стремительную ящерицу, всякий раз оставлявшую этот хвост в моей руке. Здесь я был на своем месте, здесь я мог бы жить всегда. И все-таки этот день пришел, день расставания с теплом и солнцем, югом, ярким, полным цветов и запахов, частью моей жизни. Мы возвращались на Урал, в Соликамск, к деду, возвращались именно летом, так как уже знали об освобождении Минска. Урал встретил нас, как и раньше, прохладным летом и всеобщим ожиданием конца войны, о которой там, на юге я совсем забыл. Это последнее уральское лето и осень мы жили только непрерывным ожиданием отъезда, каким-то «вызовом», которого ожидала мама, ежедневным слушанием по радио сводок «от Советского Информбюро».
Что-то слишком долго мы собираемся – прошло уже несколько месяцев, как Минск освобожден, а мы все здесь. Я успеваю поступить в школу. Меня берут сразу во второй класс, так как читать и писать я уже давно умею. Успеваю нахватать троек к всеобщему позору, из-за своей рассеянности, – мысли заняты только отъездом, – успеваю походить на лыжах с мальчишками в тайге, так как уже выпал снег, погонять на «трехконьковке», одолженной у соседа, прообразе бобслея. Но этот день все-таки наступил. Все приходят в нервное возбуждение, волнуются, перешептываются почему-то, «как там, в Минске», «кто там остался», «что уцелело». По случаю такого торжества достается, видимо, из военного госпиталя, где опять возобновила работу, настоящая, легковая машина. Старая, с облезлой в разных местах голубой краской, но зато какая, – ЗИС-101, – по тем временам, да еще и в Соликамске – неслыханное чудо. Нас провожают несколько семей из «эвакуированных», с которыми мы сблизились за эти годы жизни в чужом городе – Литинские, Пекелисы. Эдик Литинский отдает мне, прощаясь, свои марки и дарит два тома «Великого Моурави», о грузинском воине – Георгии Саакадзе. Я не знал тогда, что с этих книг для меня начнется через много лет «моя Грузия». Женщины, как обычно, плачут. Прощаемся, как будто навсегда, а, может быть, правда, навсегда, по крайней мере, с Уралом, эвакуацией, моими болезнями…
Мы дома, в Минске, 1944 год
Минск, мой родной город, разрушен так, что я еще не видел ни одного целого кирпичного дома, всюду горы разбитых, разрушенных, обгорелых домов – «погорелки», кирпично-красные холмы. Нет улиц, деревьев, фонарей – город умер, только в нижней части города течет мрачная безжизненная река, а на окраинах уцелели от немецких и советских бомбардировок одноэтажные частные домики и солдатские бараки
* * *
– Если ты еще будешь идти за мной, я в школу не пойду, —
это я говорю бабушке, которая, провожая меня, норовит дойти со мной до школы. То-то я думал, чего она одевается. Ведь уже говорил, чтобы не ходила за мной. Ультиматум подействовал. У меня в руках матерчатая, сшитая бабушкой, сумка, теплое стеганое, почти до щиколоток, пальто, тоже сшитое ее же руками, а на ногах «бурки», это что-то вроде валенок. Бурки делали из всего, что попадалось под руку, складывая в несколько слоев и простегивая на швейной машине. Бурки можно достать только на «черном рынке». Стеганые бурки всунуты в красные галоши, которые мне очень нравятся, так как красных галош очень мало в городе. Черных – сколько угодно. И те, и другие склеиваются умельцами из автомобильных американских шин, в городе только американские машины, которые и «поставляют» нам резину для галош. Другой обуви на улице почти не увидишь, в сапогах ходят лишь военные. Чтобы не потерять галоши, особенно играя в футбол, их подвязывают к буркам веревочками. Так ходить вообще удобней, особенно по осенней грязи, в которой застревают ноги. – Мы живем в оставшихся от немцев, солдатских деревянных бараках, в поселке, который все называют «полиграфическим». Поселок – это с десяток бараков, выстроенных в одну линию. В бараках длинные коридоры, отдельные для каждой семьи комнатки, в которых очень холодно, так как бараки сейчас не отапливаются, дров нет, топить нечем. С каждым днем становится все холоднее, и хотя стоят чугунные печки – буржуйки в каждой комнате, растапливаются они редко, а в основном стоят с открытыми чугунными ртами. За день все понемногу натаскивают к ночи для них, кто бумагу, кто остатки упаковочных ящиков. Чуть-чуть натопив, стараемся быстрее лечь в постель, не теряя тепло. Уже декабрь, и к утру вода в ведре, запасенная для утреннего чая, покрывается ледяной корочкой. Война уже давно ушла за пределы нашей страны, продолжается на чужих землях. По вечерам мы слушаем очередные сводки с названиями городов, уже незнакомых мне. Днем мы, – мальчишки, – повторно берем эти города в наших играх, все свободное от школы время отдается наступательным, оборонительным и другим военным операциям на «погорелках». Развернуться есть где: еще не везде убраны подбитые танки, немецкие автомашины, есть вполне приличные для военных операций полуразрушенные дома. Мы с мамой как-то прошли к месту, где когда-то стоял наш красивый, шестиэтажный «дом специалистов». От нашего подъезда остались лишь нагроможденные друг на друга, рухнувшие лестничные пролеты. И огромная воронка там, где находилось здание. Наш костел Св. Роха во дворе уцелел, торчит каким-то чудом среди этих мрачных развалин и разбросанных памятников кладбища. Город напоминает глухой запущенный лес из скрюченных балок и молчаливых руин, отдельно стоящих печных труб и кирпичных полян. Это ощущение усиливается оттого, что нет улиц, есть только проходы, как извилистые лесные тропы. А заснеженные пустыри, отдельно стоящие стены домов – молчаливы, как уральский лес зимой. Город, как декорации в довоенном мамином театре, куда она брала меня с собой. Едва очерчены контуры исчезнувших зданий, дома не имеют объемов, за четырехэтажной стеной может быть пустырь. Вот лестница, широкая, в несколько пролетов, вздыблена в небо и обрывается в пустоту. _ Город спит, как усталый, отвоевавший свое солдат, кажется, вечным сном. От прежнего Минска ничего не осталось, зато мы остались. Он возродится, совсем другим, может быть, даже лучшим, чем прежде…
Вид на город со стороны площади Свободы в 1944 году (фото из архива Белгосфильмофонда)
Война еще продолжается, мы играем на пустырях в свою театрализованную войну. Группы мальчишек строго делятся после длительных торгов на «наших» и немцев с помощью «считалок»: – «мати-мати, что вам дати…». Никто не хочет быть в роли немцев, но жеребьевка, кому быть немцами, все решает. Кое-кто из ребят постарше имеет настоящее оружие: немецкий складной автомат – «шмайсер», револьвер или финку. Все это тщательно прячется от родителей. У каждого мальчишки имеется дома свой собственный «арсенал» с боеприпасами – снарядами, патронами, артиллерийским порохом в виде длинных черных макарон и уж обязательно ракеты. По самой большой цене в нашей дворовой среде идут термитные снаряды, горящие ярким голубым огнем, расплавляющие даже землю вокруг. Они обмениваются «по курсу» – один за пять «гадюк», немецких ракет, рассыпающихся в воздухе при поджоге и шипящем выстреле вверх на сотню разноцветных, падающих дождем огней.
В городе по-прежнему темно, вечерами Минск погружается в темноту, а уроки приходится делать вечерами, так как днем на них не хватает времени. Красноватый свет от самодельной лампы дрожит, дрожит тень от ручки, дрожат мои буквы, которые неровно ложатся на прочерченные карандашом линейки-строчки тетради, сшитой бабушкой из разноцветных листов бумаги. Буквы корявые, «больные», как говорит одна из учительниц в школе. С чистописанием у меня плохо, я ведь не учился в первом классе, но говорят, что в третьем его уже не будет. Я сижу впритык к самодельной лампе – артиллерийскому латунному снаряду со сплющенным концом, в котором держится фитиль. От снаряда сильно пахнет керосином, но светит он гораздо сильнее уральских плошек. Это уже почти керосиновая лампа – мечта моей бабушки, мама, как обычно, на работе во второй смене. Через некоторое время выясняется, что старая дедушкина довоенная квартира, то есть комната, в которой он жил, а жил «деда» всегда отдельно от нас, – сказывалась привычка к независимости и собственному дому, экспроприированному у него после революции, – так вот, дедова комната каким-то чудом уцелела в старом доме на Интернациональной улице. Правда там живет, – «полуночник», рассказывая об этом, бабушка понижала голос, – «какой-то эмгебешник». К лету нам обещают вернуть эту комнату, так как «деда», оказывается, работает именно в МГБ, санитарным врачом. Дед, чтобы не ходить поздно ночью через весь город к поселку, ночует на работе. Поговаривают, что в городе «шалят какие-то банды». Скорее бы лето, все устали от зимних холодов, от бесконечных забот о печке-буржуйке, прожорливой, как топка паровоза, от окон, из щелей которых все время дует, от плохой зимней одежды, зимних проблем с умыванием, словом от первой зимы. Мы, хотя и в Минске, но не дома. Нашего дома больше нет, а дедушкин – занят чужими людьми, говорят, офицерами МГБ.
Май 1945-го!!!
Мы, наконец, получаем в свою собственность довоенную, дедушкину комнату, в старом двухэтажном доме, сохранившимся во время войны, на втором этаже. Комнатенка маленькая, с высоким узким окном, высоченной белоснежной кафельной печкой и недосягаемым потолком, отчего комната кажется еще меньше. Поселяемся в ней втроем – мама, бабушка и я. Дед, привыкший к независимому образу жизни, по-прежнему отдает предпочтение служебному кабинету и столу, за которым он пишет и на котором спит. Через некоторое время дед находит сдающуюся на окраине города в частном бревенчатом доме комнату, и семья окончательно переходит на оседлый образ жизни. У нас в комнате есть настоящая электрическая лампочка, прикрепленная двумя согнутыми крючками проводов к таким же, торчащим прямо из стены. То, что в них есть электричество, обнаруживает случайно дедушка. Мы начинаем «воровать» свет, так как счетчика у нас нет, да и достать его невозможно, а соблазн слишком велик – четыре года мы жили без электрического света. Счетчик здесь был, но прежний жилец, «эмгебешник», переезжая, вырвал из стены щиток с электросчетчиком, сорвал всю проводку и, чтобы не входить на новом месте в лишний расход, заодно и свинтил ручки с дверей и окон. Напротив нашей двери, квартира-то общая, с другими жильцами, коммунальная, проживает тоже «эмгебешник», при котором, если он дома, шепотом говорят уже все, не только бабушка. Соседи, налево из наших дверей, старые, еще довоенные, приехавшие раньше нас, обычная еврейская семья – Ботвинники. Я долго не могу понять, кто из них кому кем приходится. Дора Моисеевна с сыном Маратиком и с мужем Михаилом Семеновичем, – упорно называет его Мойшей, – занимают две комнаты с балконом. Маратик зовет Мойшу дядей, оказывается Дора и Мойша – брат с сестрой.
Наш старый квартал по улице Интернациональной почти весь чудом уцелел, хотя на противоположной стороне улицы нет ни одного сохранившегося дома, кроме «монастыря бенедиктинцев». Впрочем, его ждала такая же участь, как и остальных, разрушенных войной, строений. Когда я случайно нашел в интернете этот рисунок, то глазам своим не поверил. Это было местом наших дворовых игр. «Советы» потом взрывали его целую неделю, а у нас дрожали стены и тряслись стекла в окне. Чей это рисунок, я так и не нашел, или затерял где-то в своем архиве… Поблагодарил бы автора, что разбудил мою память…
За задним фасадом дома, рядом с уцелевшим костелом, выходящим на площадь Свободы, светит пустыми окнами, выгоревшая изнутри, старинная башня с часами. Школа, в которую я сначала перехожу, размещена в служебном здании монастыря, впритык к костелу. Несколько раз я, не в силах удержаться, несмотря на запрет бабушки, захожу в костел, когда там идет служба. В костеле мне все очень нравится – и пение, и музыка, и строгие статуи святых во всех приделах. Только обязательное буханье на колени вызывает у меня еле сдерживаемый смех, за который какая-то из старушек-прихожанок больно тычет мне в голову сухим кулачком. Костел, правда, очень скоро закрывают, и он стоит печальный, красивый, со своими двумя белыми башнями, среди обшарпанных, уцелевших домов, ожидает свою участь.
Наш двухэтажный дом стоит во дворе квартала, он кирпичный с деревянными пристройками у подъездов, с балкончиками во втором этаже, предметом моей зависти – у соседей комната с балконом. Вокруг квартала одни развалины, – «погорелка», так это называется на уличном жаргоне, – неизведанная страна, полная всяких тайн и неожиданностей. Все свободное от школы время мы рыщем по «погорелке» в надежде найти что-нибудь интересное, ковыряем стены, растаскиваем кучи разбросанных бомбежками кирпичей в тайной надежде найти клад, довоенный сейф или чью-нибудь «заначку».
Ни один уважающий себя «хлопец», так мы обращаемся друг к другу, не пропускает в своей жизни того времени, когда ему, ну «прямо кровь из носу», необходимо найти клад. Любое место кажется нам подозрительным в этом смысле, мы часами бродим по кладбищам, заглядываем в склепы, а найдя подходящую стену, оглянувшись по сторонам для конспирации, кто-нибудь засовывает руку во все вентиляционные отверстия, простукивает пустоты. Клад найти хочется всем, но ни одного такого знакомого счастливца среди нас нет. Мы ведь еще не знаем, что после Тома Сойера и Гека Финна, ни одному из мальчишек в мире не удалось разыскать клад, несмотря на уйму потраченного времени. Единственный раз за несколько послевоенных лет нам удалось откопать прилично сохранившийся, небольших размеров, сейф, извлеченный из-под груды обломков, но после многочасовых усилий, затраченных на то, чтобы открыть его с помощью ломика, мы заглядываем внутрь и находим там только пачку спекшихся во время пожара транспортиров и ещё какой-то мелочи. Видимо, до войны здесь был магазин канцелярских товаров. Нам все время не везет. Зато нам повезло в другом, потому что мы увидели День Победы и конец войны, и услышали не прекращавшуюся ни днем ни ночью стрельбу из всех видов оружия – народный салют после стольких лет маскировки и тишины. День Победы запомнился страшной толпой в кинотеатре «Родина», открытом недавно на соседней улице, и очередями у пивных бочек на улицах. В эти дни мы были предоставлены полностью себе – родители о нас забыли в своей радости наступившей мирной жизни. В городском парке начались массовые гуляния, толпы народа позволяли нам «просачиваться» в зрительный зал кинотеатра без билета, «на прорыв», что в другие дни было не очень просто. Контролёры закрывали на нас глаза.
Дома у нас узнали о полной победе и капитуляции Германии раньше других, так как на радио работала диктором мамина подруга – Лиля Стасевич. И когда я на следующий день принес эту весть в класс, то целый день пользовался особыми знаками внимания к своей особе. Это был совершенно особенный, никогда больше не повторенный, май месяц 1945 года.
Популярность в школе, как и в обычной жизни, явление быстротечное, исчезла быстро, в классе появился новый кумир, на голову выше всех ребят, Слава Голубев. Он за один раз может съесть целый батон и говорит уже басом.
Наш класс – обычный мужской класс обычной мужской средней школы. Он ничем особым не отличается от других классов, так же спаян взаимопониманием во время письменных работ и контактами при вызове к доске. Разве что у нас есть собственное изобретение, на которое приходят посмотреть из соседнего класса, и мы готовы поделиться опытом с ними – конструкцией миниатюрной подвесной дороги от первой парты до последней. По дороге едут во время контрольных работ вагончики-шпаргалки, едут точно по расписанию. А вот городской трамвай, первый номер и пока единственный в городе, ходит мимо нашей школы, когда ему вздумается. Резинки на пальцах-минирогатки, игра в «перышки» на уроках на задней парте, игра пятаками «об стенку» на переменах и после школы, два ябедника-профессионала, которых мы хором забрасываем на высокую кафельную печь под самый потолок, «для острастки» – неполный набор развлечений школьной жизни.. Печка – орудие наказания, так как слезть с печи самому невозможно, а очередная жертва дожидается прихода учителя с лестницей. Есть в классе и своя «Камчатка» – задний ряд парт с великовозрастными второгодниками, у некоторых, хотя мы еще в четвертом классе, пробиваются усы. По выбеленным стенам следы от галош, соревнования по плевкам на дальность, о которых в учительскую проникает искаженная версия о том, что «у них там даже в ухо друг другу плюют». Словом, весь обычный для того времени набор игр обычного мужского класса обычной мужской школы. Необычен, по крайней мере для меня, а я уже переменил три школы из-за нехватки школьных зданий и постепенного увеличения числа школьников, необычен только наш учитель – Даниил Денисович Лиштван – старый, еще с гимназических времен, преподаватель, подвижный, подтянутый, сухощавый, с полным набором беларуских, польских и русских цензурных ругательств.
– Стой, холера ясна! Встать, руки на парту! – Это он ко мне, выхватывает из-под крышки парты у меня книгу, в это время из-за спины извлекается непременная, всегда при нем, деревянная линейка.
– Та-а-к, поинтересуемся, что тут у Вас такого необыкновенного, чем Вы заняты?
– Робинзон Крузо, великолепно… Вы уже на необитаемом острове?
– Руки на парту!
– Дикари! – линейка падает мне на ладони – Пятницы! – еще один удар, бьет он не больно, больше для устрашения.
– «Робинзона» уношу, попрощайтесь, давно не читал, с довоенного времени. Книга кладется в портфель, я в отчаянии. Во-первых, я не должен был ее брать из дома, хотя она моя, собственная, мне ее подарили на день рождения. Во-вторых, такую книгу достать невозможно, это полное «академическое» издание, такого ни у кого из моих сверстников нет. Вся надежда на первые парты, где расположены наши «разведчики». Класс понимает сложность операции, но быстро ориентируется, тем более, что еще и половина класса не прочла этот шедевр. Выручает «Камчатка».
– Тр-тр-тр-тр-тр…, – раздается оттуда. Даниил Денисович делает стойку, напрягается и спиной к классу вслушивается, как сторожевой пес.
– Тр-тр-тр… – снова тот же звук сверчка, но он уже в броске туда, на звук, руки его в последнее парте, и Даниил со счастливым лицом ребенка, получившего, наконец игрушку, медленно извлекает из парты, как рыбу из воды, боясь упустить, и поднимает над головой «пстрикалку» – миниатюрную трещотку, сделанную из киноленты, новинку этого учебного года. Это была его ошибка, один из «камчадалов» покидает класс, но «Робинзон Крузо», вытащенный мгновенно из портфеля учителя, уже у меня за пазухой. В конце урока построение, обыск – процедура, отработанная нами, прошедшими через санпропускники военного времени, в совершенстве. Класс с невинными физиономиями, по одному проходит, протискивается с открытыми сумками, портфелями мимо него, стоящего в дверях контролером, а первые же, выпущенные из класса на волю, ловят внизу под окнами «Робинзона», выброшенного из окна. Потому и обложка у этой моей книги до сих пор оторвана.
Даниил Денисович был совершенно особым человеком, класс мог простить ему все его чудачества и строгости. Ну, какой другой учитель мог после уроков затащить к себе домой полкласса и катать всех на лодке? Он жил в собственном домике у самого берега Свислочи, на ее повороте к железнодорожному вокзалу. Кто еще мог в то голодное время поить всех нас чаем с медом из двух своих сохранившихся в войну ульев? Или задавать на зимние каникулы по полтораста задач, из которых мы не успевали сделать и половины. Кто мог наказывать нас линейкой и рассказывать при этом смешные поучительные истории, попадать, рассердившись, мелом в лоб, сидящему на самой задней парте, и не видеть, как ставят у него под носом перевернутые отметки в классный журнал, когда он отворачивался?
Когда весь наш класс перевели в новую, только что отремонтированную после военной разрухи, 4-ую городскую мужскую школу имени Кирова, мы еще долго по инерции ходили к нему в гости. Нам тяжело далось расставание с ним – единственным за эти несколько лет, добрым к нам учителем, с беззаботной жизнью учеников 3-го класса. Начиналась настоящая, строгая учеба в новой, самой лучшей школе, с новыми преподавателями, новыми предметами.
Начиналась новая жизнь. Эта школа была ближе к дому, можно было дойти до нее за двадцать минут – через «погорелки», пожарища, нерасчищенные улицы. Но ходить пришлось уже в первую смену, то есть рано утром, почти в ночь, когда в зимнее время, по улицам, освещенным только луной, я часто шел, закрыв от страха глаза – такие вокруг были «декорации» послевоенного города.
1946 год. Возвращение родных из Германии (репатрианты)
– Лю-у-у-ся, – кричит под окном тетя Мила, «мадам Литвинчук», как по привычке зовет ее моя бабушка. «Литвинчуки» занимали вторую половину дома, где прошло детство моей мамы, они остались в оккупациии, так и «отсиделись» в своем доме всю войну, что позволило сохраниться всей семье.
– Нюра на вокзале! – выдохнула она разом. Какая Нюра, почему на вокзале? Я вижу, что побелело и мамы лицо, что она хочет что-то сказать, но губы беззвучно шевелятся. хватает со стола свою сумочку, на ходу набрасывает на себя кофту и бросается вниз по лестнице, я за ней. Мы втроем бежим через весь город к вокзалу. На ходу слышу, что «эшелон», что «надо дать кому-то», что там Майя, Том… Это ведь тетя Нюра, а Том и Майка – мои брат и сестра, чтоб мне с места не сойти. Это было они, из той далекой солнечной жизни, до войны. Эта та, уже забытая мной, воронка на месте их дома в Орше, где мы оказались при бегстве из Минска. Это там была когда-то собака Лорд, на которой можно было мне ездить верхом, и дядя Макс в черном автомобиле «Эмке», Днепр и еще чего-то много такого, что я на ходу еще не успеваю вспомнить. Что там делают с тетей Нюрой, я не вижу, потому что стою у груды вещей, сброшенных с товарного вагона, и смотрю на них – Майю и Тома. Майя высокая, с толстой косой, в сером, в облипку, платье, такая красивая, каких я еще не видел. Она стоит, как на ветру, чуть подавшись вперед грудью, спокойная и строгая. На горе из чемоданов и сундуков, на которых написано что-то по-немецки, сидит Том, мой брат, в ковбойской рубахе и безрукавке. На них необычная одежда, которую я пока видел только в кино. Том, прямо Том Сойер, а ведь точно похож, тютелька в тютельку, я его именно таким и представлял. У меня, значит, брат, старший брат, крепыш, выше меня и конечно сильнее. Тут уж во дворе мы кое с кем посчитаемся. Мы с ним жмем друг другу руки. Наша семья удвоилась. Нас теперь шестеро в дедовой комнате, где мы жили пока втроем, шесть человек на 13-ти квадратных метрах. Зато стало интереснее, веселее. Бабушка спит на диванчике, мама с тетей на кровати «валетом», а мы втроем на полу. На полу лучше всего, все равно, что в другой комнате. Мы, обычно, долго лежим без сна и тихо шепчемся с братом, обсуждая события прошедшего дня. Сестра с нами не говорит, но даже в темноте чувствуешь, что она тоже не спит, а лежит с открытыми глазами и глядит куда-то сквозь стены. У нее свои мысли, ей уже семнадцать лет, и мы для нее не представляем никакого интереса. Том старше меня на три года, ему уже двенадцать, а мне когда-то еще будет только десять. Майя лежит с края, Том посередине, я впритык к бабушкиному диванчику. Громадная пуховая перина, привезенная нашими из Польши, покрывает, как облако, весь пол нашей комнатенки. Мы с братом, наговорившись, засыпаем, мама с тетей все шепчутся, им есть, что рассказать друг другу.
Отдельным ярким и страшным воспоминанием от этого года осталась церемония казни, через повешение, военных немецких преступников на городском стадионе каким-то воскресным днем лета 1945-го года. Эта, застывшая в памяти на всю жизнь сцена, стоит перед глазами, не утрачивая своей фотографической резкости: тысячеголовая толпа на поле перед виселицами, ровный ряд «студебеккеров» с откинутыми бортами перед ними, барабанная дробь, строгие каменные лица немецких офицеров на бортах автомашин. Немцы стоят вытянувшись, как на параде, спокойные и, как мне казалось, торжественные, и только один из них во время этой церемонии обмякает, когда ему хотят надеть на шею петлю, его подхватывают под руки и довершают церемонию. Под барабанную дробь, по команде, «студебеккеры» отъезжают, оставляя за собой раскачивающиеся тела. Все кончено, общий вздох толпы, один из повешенных еще некоторое время дрыгает в конвульсиях ногами. Мне помнится, что настроение у всех было близкое к празднику. А мне почему-то не было весело и стало неприятно смотреть, как «висельников» толпа раскачивает за ноги… Если мой брат почти все умеет, если мой брат столько видел, что и за год всего не расскажешь, если мой брат уже на следующий день расквасил нос одному из моих врагов, Леньке-Тянитолкаю, точным боксерским «хуком», то и мне есть, чем гордиться. Я учу моего старшего брата писать. Ну да, он не умеет писать, точнее он умеет писать, но только по-немецки. Я диктую ему русские тексты, а он пишет их немецкими буквами, значит надо переучиваться. Он и говорить умеет по-немецки, а сестра еще и по-польски. Тома во дворе побаиваются все, даже Жорка-Ключник, мрачноватый тип в «малкозырке», который уважительно ставит ему пиво в ларьке наискосок от нашего дома. Осенью мы пойдем вместе в четвертый класс, брат потерял три года учебы в Польше, в немецком лагере, где если и учили, то не тому, что сейчас нужно. Жаль, что пока его нельзя устроить в нашу школу, нет мест, но маме обещали. Мама преобразилась, помолодела с приездом наших, осчастливленная швейной машинкой, которую тетя Нюра провезла через все границы. Машину эту (настоящий Зингер) ей когда-то еще «при царе горохе», до революции купил дед, Александр Павлович, то ли в Вильно, то ли в Варшаве. Бабушка целыми днями сидит за машиной, мурлыча себе что-то под нос, давит ногой на педаль, раскручивая массивное колесо привода. Когда бабушка устает, ее сменяет тетя Нюра. Машина постоянно стрекочет, всем что-то надо, одежды не хватает. На нас, мальчишках, одежда, как говорит бабушка, «просто горит», сестре вообще уже «надо прилично выглядеть», так что с утра до вечера что-нибудь старое распарывается, раскраивается, перелицовывается, перешивается. Из старой юбки получаются новые штаны, из пальто – брату куртка, из каких-нибудь двух старых предметов туалета – один новый. Бесконечная цепочка необыкновенных превращений – явное доказательство закона сохранения материи. Бабушку опять сменяет тетя, машина уже работает в две смены, моя мама тоже работает в две смены, на двух работах и приходит поздно вечером, падая сразу в постель. Мы, если не в школе, то на улице, на «погорелках», сестра в очередной раз, уже в русской школе, заканчивает учебу, чтобы получить аттестат для поступления в институт. Дома она обычно сидит, поджав под себя ноги, и что-нибудь читает или смотрит невидящими глазами куда-то вдаль. От ее красоты у меня захватывает дух, а я уже начинаю в этом разбираться. А у Тома уже бывают и свидания, на которые он меня, конечно, никогда не берет.
Новый учебный год начался, мы пошли в школы, пока в разные, во дворе стали восстанавливать следующий дом немецкие военнопленные, в длинных рваных шинелях, худющие, с запавшими синяками глаз. Том иногда разговаривает с ними и как-то приводит одного «расконвоированного» к нам домой, чтобы он сделал форточку в окне. Бабушка, повздыхав, делает ему бутерброд, за который он потом столько раз говорит «данке», что всем становится неудобно, а бабушка вот-вот расплачется, глядя на его истощенное лицо. Немецких военнопленных становится в городе все больше – рядом с нашим кварталом возникает обнесенный колючей проволокой лагерь, с часовыми на деревянных башенках по углам, с собаками. Все немцы из лагеря заняты на стройке, строят очень быстро, умело. Через четыре-пять месяцев на параллельной нашей Интернациональной улице – Советской улице – возникает громадное, во весь квартал, здание с башнями, колоннами, арками, сразу же закрытыми массивными железными воротами, с появившимися у подъездов часовыми. Это первое здание послевоенного Минска, новое здание нового города, новой, как всем кажется, спокойной мирной жизни. Это желтое здание – Министерство Государственной безопасности, «эмгебе», по-нашему. Здесь работает наш сосед по квартире – «эмгебешник» или» полуночник», по определению бабушки. Мы его никогда не видим, даже не знаем, какой он в лицо, он приходит домой по ночам, и ни с кем, как мы знаем, не поддерживает отношений. Многоопытная бабушка запрещает нам громко разговаривать в коридоре у его дверей.
Бабушке с нами уже не справиться, но мы и сами дома бываем все меньше. Наступило настоящее, жаркое лето и мама поговаривает, что, может быть, нас отвезут в деревню, где живет бабушкина родная сестра Эмилия. А пока мы «строим», точнее разрушаем остатки старого города. Похватав дома кое-как еду, мы мчимся с подручным инструментом на «погорелку», понимая, что старый город надо разрушить, чтобы выстроить новый. Наша самая активная во дворе «команда», – не какие-нибудь маменькины сынки, – со своим главарем, «рыжим боцманом» или его «заместителем» Жоркой-Ключником, как на работу, каждый день выходит «брать приступом» обгорелые, полуразвалившиеся дома вокруг нашего квартала. Работа стихийная, но целенаправленная общей мыслью – разрушить все вокруг, старое, безобразное, непригодное для города. Десяток мальчишек с нашего двора разваливали какой-нибудь трех-четырехэтажный, обгорелый, с пустыми глазницами окон, дом за несколько дней. Конечно, вся подготовительная работа шла в сладострастном предвкушении последней фазы разрушения – этого торжества после наших героических усилий. Подбив потрескавшуюся стену дома снизу импровизированными кирками или ломиками, обвязав эту стену на уровне, например, третьего этажа веревкой, «рабочая бригада» дружно налегала на конец. «Раз-два, взяли», – стена качнулась, еще раз-другой, мы попадаем в резонанс с ее покачиванием, все более расшатывая кирпичную громадину, еще разок – все врассыпную. Медленно, нехотя, стена наклоняется, останавливается на мгновение, у всех от предвкушения главного момента начинает холодеть в животе. Стена обрушивается, погружая всех нас в столбы красновато-серой пыли. Иногда стена падала не в ту сторону, так один раз стена стоящего наискосок дома упала почти перед носом трамвая, который уже пошел и по нашей Интернациональной улице. Работы пришлось на время приостановить, надо было пополнить запас конфискованных у нас инструментов и не мелькать перед глазами людей, заинтересовавшимися нашими работами.
Мы осваиваем теперь клуб МГБ, ходим туда смотреть «трофейные» кинофильмы, чаще всего американские. Денег на нормальный билет ни у кого нет, но нас «пацанов» контроллер впускает по таксе «рубль с носа» (старый рубль до 1947 года) и мы сидим где-нибудь, притулившись к стене на полу, или на радиаторах отопления, или на случайно пустующем месте по-двое.
А какие фильмы нам удалось тогда посмотреть, одни названия чего стоят: «Капитан армии Свобода», «Ураган», «Знак Зоро», «Девушка моей мечты», «Джордж из Динки-джаза». Это было окно в тот мир, о котором мечталось мне еще в долгие часы моих больничных, уральских дней в эвакуации. Окно, которое немного приоткрылось, как театральный занавес, как та, другая жизнь летом, в Средней Азии, яркая, вкусная и цветущая, полная радости.
Наша жизнь, а вскоре и жизнь всего города, начинает вращаться вокруг здания Министерства Государственной Безопасности. Город застраивается вокруг него, напротив него вырастает в считанные месяцы еще один дом, похожий на здание МГБ, дом с угловой башней, с часами, потом рядом такой же, потом еще и еще, так на наших глазах появляется новая Советская улица – главная улица нашего города. Всюду на стройках военнопленные немцы – они строят то, что разрушили, в этом есть и высшая справедливость.
В один из выходных дней мама собирает нас, и мы едем на поезде, – а я так давно не видел поездов после возвращения с Урала, – едем к «тёте Эмме», так ее называют у нас дома. Я ее еще ни разу не видел и вообще это целое приключение, на поезде до Руденска, а потом еще и пешком километра четыре до деревни Цитва, где и живет моя вторая бабушка. Мы идем пешком, я босиком, но тепло, хорошо идется по проселочной дороге, особенно в начале пути. На половине пути попадаем в невероятной красоты грозу с ливнем, останавливаемся прижавшись друг к другу. Я начинаю уставать, но присутствие женщин заставляет держаться. Часа за два приходим в деревню, и вот мы в доме «тёти Эммы», огромном жилом пространстве после нашей комнатушки, целый дом со своим садом, огородом, с коровой в хлеву, как на Урале у Гуляевых, с собакой Шариком, такой же как в Соликамске. У дома кусты сирени достают до золотистой соломенной крышей, во дворе колодец «журавль» и две большущие яблони.
У бабушки Эммы все так вкусно, такие замечательный запахи во всем доме: на окнах сушится пахучая мята, все имеет совсем другой вкус, чем в городе, даже яйца, которые я очень люблю, исчезнувшие в нашей жизни на Урале. В огромной белоснежной, выбеленной печи что-то булькает, шипит за заслонкой, ждет нас, бабушка приготовилась к этой долгожданной для всех встрече. Нам еще не раз с Томом доведется проводить летние каникулы у бабушки Эмилии, так что я пока прервусь.
Мне 10 лет. Чтобы я ни сказал маме, она мне верит, так что невозможно при таком доверии ее обмануть, эти уроки воспитания я запомнил на всю жизнь. Поэтому кое-что приходилось не выносит наружу, не подвергать ее критике, ложь в семье была под строгим запретом. Книжное образование продолжалось, стали интересовать новые темы. Боль под сердцем, та старая, уральская давно прошла, но зато появилась этой осенью и стала потом приходить каждую следующую осень новая болезнь – любовь. Можно назвать это и по-другому, например, осенней лихорадкой, объяснить каким-либо гормоном, но каждую осень это особое состояние души приходило откуда-то и так же странно и необъяснимо уходило. Все остальные времена года были поделены на школу, бассейн, книги, и только осенью все отходило на второй план, и я погружался в состояние между сном и болезненным бредом. Конечно, в первые десять лет это не причиняет особых страданий, все переживания сначала ограничиваются бесцельным хождением вокруг «ее» дома и смертельной боязнью увидеть «ее», палочками с вырезанным именем, окруженным затейливыми вензелями, чтобы никто не мог прочесть, и бормотанием имени избранницы, или фамилии. Имя играет первостепенную роль, особенно если ее зовут Ада. Фамилия первой любви, или как это чувство еще можно назвать, – Беленькая, хотя она брюнетка с черными масляными глазами. Спасает от этого нового чувства рано выпавший ночью октябрьский снег – все переживания утром уходят навсегда. Потом будет хуже, переживания приобретут новую форму, усилятся, и сроки этого заболевания иногда затронут и другие сезоны года.
Первая потеря, февраль 1947
Редкий сегодня день – никого дома, кроме меня и бабушки. Бабушка легла отдохнуть на диванчик, а я с соседским мальчиком играю в шахматы, мы залезли с ногами на стулья и ведем бой за центральную, пешку. Сумерки, за окном серость, положение на доске у меня неважное. Брат ушел куда-то, не берет меня с собой в последнее время, у него «роман». Сестра что-то вообще не появляется, тетя стала работать вместе с дедом на городской санитарной станции. Игра не клеится. Бабушка лежит спиной ко мне, вроде бы заснула, но вот скрипнул диван, потом, как в замедленной съемке в кино, она поворачивается на бок лицом ко мне, приподнимается на локте. Еще ничего не понимая, я начинаю чувствовать страх, а сердце мое отчетливее и быстрее стучит во мне. Бабушка висит на своем локте вечность, глядит прямо мне в глаза. Ей надо что-то мне сказать, что-то очень важное, я вижу, понимаю, даже хочу спросить ее. Ну, что ты хочешь, – говори, только не молчи. Я хочу, но не могу вскочить и подбежать к ней, сижу онемелый, окаменелый. Вижу в ее глазах как будто свое отражение, напряжение, а глаза, как день за окном потухают, из них уходит сначала несказанный вопрос, потом смысл, потом свет. И, словно, я сам исчезаю вместе с блеском ее глаз, вот она уже не видит меня, хотя и смотрит по-прежнему прямо в мои глаза. Еще что-то связывает нас, какая-то ниточка, но лопнула, она смотрит уже сквозь меня, сквозь себя. Напряжение во взгляде исчезает, она что-то увидела там, за кругом жизни, на меня из ее глаз смотрит пустота. Это смерть. Я хочу вздохнуть – не могу. Темнота налетела, вечер за окном кончился сразу, внезапно. Пустота ее глаз втягивает меня, я судорожно держусь за край стола, чтобы не упасть. Ее тело опускается на подломившийся локоть. Все кончено… Я бросаюсь из комнаты, иначе эта пустота, отдающаяся звоном в ушах, поглотит меня. Бегу раздетый по улице, что это – снег, дождь, я бегу босиком, ничего не ощущая. Куда бегу, разве от этого можно убежать? Мне жарко, а пустота гонится за мной. – Мама, мама, – шепчу или в мыслях бьется. Я бегу к ней, она где-то близко у знакомых в гостях, кажется, у тёти Веры Мальковой в гостинице, через пару улиц. Вот подъезд, лестница, распахиваю дверь: – Мама, мама, – БАБУШКА!..
Вот и все, а дальше – ни дней, ни людей, ни похорон я не видел и ничего не помню, словно провалился в черноту. А когда пришел в себя и стал соображать, что произошло, почувствовал – ничего не спасет, никто не поможет, ни мама, ни брат, ни один человек на земле. Все уходят в пустоту, она стоит за спиной, прячется по углам и ждет. Она может ждать долго, но все равно дождется – она вечная. А я нет. И все другие тоже. Она везде, а я только здесь. Она всегда, а я на миг, на одну жизнь. Тогда зачем все это вокруг? А все остальные разве не знают? Ходят, едят, разговаривают, смеются… Может быть, они знают что-то другое, важное, чего я не понимаю Я лежу ночами напролет и размышляю – ничего не поделаешь, ничего не исправишь. Не хочу, НЕ ХОЧУ! Не хочу, чтобы меня никогда не было! Нигде! Пусть не всегда, но когда-нибудь, где-нибудь снова. Разве это совсем невозможно!
Что-то со мной произошло за это время, я вижу себя не изнутри, как раньше, когда все было вокруг меня, словно создано только для меня, а вижу, как бы со стороны, наблюдаю, как за другим человеком. Он маленький, этот человечек, и его иногда бывает очень трудно понять, почти невозможно, он не говорит никому о своих мыслях. Вот он идет по улице, вдруг останавливается и начинает считать шаги до выступающего из мостовой камня. При этом шепчет про себя: – «Если больше четырнадцати, то всегда, если меньше…» и отсчитывает шаги, осторожно переступая, словно боится. Или сидит часами, глядя куда-то далеко, не видя никого вокруг, не слыша. Когда он остается дома один, наедине со своими мыслями, неотступная мысль об исчезновении кружится в его голове, пожирает все остальные, до обморока, он падает и долго обессиленный и уничтоженный этой мыслью не может встать. Хорошо, что никто его не видит в эти мгновенья. У него вырабатывается скрытность, вместе с ней воля, а может и мужественность. Никто, ни один человек, даже мама, не должны видеть его в такие минуты, никто не должен знать его мысли. Если это его слабость, тем более.