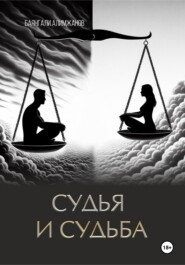По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказ столетнего степняка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сколько вас? – тихо спросил я, не смея возражать своему спасителю.
– Нас несколько сотен, а может и тысяч по всем фронтам! – уклончиво ответил Мажит.
– А сколько нас? Миллионы! Весь казахский народ! На фронте проливает свою кровь. Работает в тылу и ждет с надеждой своих сыновей и братьев. Хочешь не хочешь, но эта война стала священной, отечественной и для казахов! Она стала нашей общей трагедией со всеми народами Союза! Ты прости, но перейти к вам не могу. Если твоя дорога пошла по-другому, что поделаешь, такова судьба! Но я остаюсь со своим народом. Да, спасибо, что спас как брата, но пойми: измена присяге – смерть для джигита!
– Постараюсь понять, Асанбай, – спокойно сказал прожженный огнем, переживший гонения и травлю туркестанец. – Но и ты пойми правильно, мы хотим блага для всех казахов! Подумай еще. Поживем, увидим.
Я промолчал. Он тоже не стал докучать, а просто сказал: время покажет. Так хотелось спросить его про Салима, но удержался. Боялся, как бы не навредить брату. На прощание легионер Мажит сказал, что еще вернется за мной. Но исчез навсегда. Никто не знает, что там у них случилось, а война стремительно шла к концу, усиленно затягивая в свой кровавый водоворот все больше и больше людских жизней.
В плену у немцев я пробыл почти шесть месяцев. Вначале было просто ужасно. Но, как говорят казахи, через три дня человек привыкает и к могиле. Очухавшись, тянул свою лямку со всеми вместе.
Сколько нас, советских военнопленных, было здесь, никто точно не знал. Наверное, несколько тысяч. Здесь были выходцы из многих уголков Советского Союза. Мы толпами жили в полуподвальных каменных застенках. Низкий серый потолок, двухъярусные железные нары, маленькие окошечки, зарешеченные с немецкой аккуратностью, давили на психику. Мы толком не ведали, где, на какой стороне света находимся. С нами обращались как с рабами. Кормили сносно, чтобы могли работать. Ранним утром выводили на работу. В основном копали землю, строили какие-то непонятные укрепления. Ползли слухи, что это бункеры, огневые точки для подземного укрытия. Для себя делали вывод: немцам туго и они отступают. Скоро наши будут здесь, но, неизвестно, доживем до этого дня или нет. Многие, полуголодные, умирали от переутомления. После нескольких месяцев тяжелой, иногда непосильной работы пленные превращались почти в живых скелетов. Тех, кто падал в обморок от изнеможения во время работы и не мог подняться, охрана пристреливала без звука. Природная выносливость и многолетняя закалка пригодились и на этот раз, и я терпел все тяготы и унижения. Бывало, лопата казалась такой тяжелой, что становилось невмоготу даже пошевельнуть ею, а сделать шаг было почти невозможно. Однажды я упал от бессилия на холодную, сырую землю, и конвоир начал наводить ствол автомата, но неимоверным усилием воли, каким-то чудом я заставил себя подняться. Как будто какая-то святая мощь поддержала меня, и, почувствовав прилив сил, опять взял лопату и продолжил работу. Конвоир-немец оскалился, покачал головой и отвел ствол. Я тихо помолился Всевышнему, вспомнил святых предков Марал ишана и Салык муллу.
Плен – самый унизительный удел человека, и я переносил это только потому, что очень хотел выжить. Выжить любой ценой и вернуться домой, увидеть детей, мать, жену, родной край! Но, не все зависело от меня. Фашисты в любой момент любого военнопленного могли вывести и расстрелять. Но это происходило очень редко, потому что немцы берегли и использовали нас как рабскую силу.
Многие советские солдаты стойко переносили все тяготы и оставались верны воинской присяге, но были и такие, которые, не выдержав мучений, поддавшись уговорам и испугавшись угроз, вступали в ряды Русской освободительной армии и Туркестанского легиона.
Иногда думаю, что, если бы фашисты заставили меня вступить в ряды Туркестанского легиона? Смог бы стрелять в советского, в русского солдата?! Я дрался с царскими карателями, был против белых и красных, потому что они пришли с оружием на мою землю. Ненавидел всякую власть колонизаторов – русскую, царскую, белую, красную, советскую, называйте как хотите. Но стрелять в русского солдата я не мог!
В этой войне мы все были братьями, боевыми друзьями. Мы, казахи, русские, все национальности огромной страны, были едиными советскими солдатами, боевыми товарищами и защищали единую Родину – СССР! Защищая Советский Союз, русский край, мы защищали свою родную землю, свой народ.
Это была священная война! И кровь солдата, пролитая в той войне, священна! И дружба солдата, испытанная огнем и мечом, священна!
Нет, не мог я, несмотря на всю неприязнь и историческую обиду за свой казахский народ, поднять руку на русского солдата, вместе с которыми шел на смертельный бой с фашистами. И твердо решил не вступать ни в Туркестанский легион, ни в Русскую освободительную армию.
«Лучше испить свою горькую чашу до дна, чем быть предателем! А там посмотрим!» – успокаивал сам себя.
Америка и аул
День за днем война приближалась к концу. Ночами слышны были далекие канонады и взрывы авиабомб. Бывало, мы тряслись на нарах, боясь, как бы свои, советские бомбы и снаряды, не разорвали нас в клочья.
Однажды ночью услышали отзвуки ожесточенных боев, которые, судя по всему, шли рядом. Всю ночь, несмотря на усталость, не могли сомкнуть глаза, и лишь под утро заснули.
Наутро нас никто не заставлял, как обычно, выходить на работу. Казалось, про нас забыли. Лишь через сутки послышались чьи-то шаги, и ворота отворились. Вошли солдаты, но не наши.
Это были американцы.
Они хотели увезти военнопленных в далекую загадочную Америку. Нам так и сказали: «Поехали к нам, ребята, будете жить свободно! А вернетесь в свою страну, Сталин прикажет всех вас расстрелять!»
Некоторые предпочли уехать с ними в Америку, чем возвращаться в СССР.
Вот это было бы здорово! Сесть на большой корабль и бороздить мировой океан. Плыть и плыть день и ночь, лежать на открытой палубе, обдуваемой вольным теплым ветерком со всех сторон, смотреть на мерцающие крупные звезды на ночном небосклоне Южного полушария, наслаждаться мирным мгновением жизни и предаваться своим мечтаниям.
Но я отказался!
Что-то меня не отпускало!
Тоска по родной земле была сильнее. Сильнее американской мечты и сильнее страха сталинских лагерей.
Ну хорошо, поплыву на корабле через Атлантику, и что дальше? Не будешь же всю жизнь плавать и созерцать звездное небо. Когда-то придется выйти на берег, и этот берег не наш, чужой, американский! Нет, лучше поверну лодку своей жизни к родным берегам!
И тут внутри меня тихо прозвучал насмешливый голос Салима: «А где твой родной берег? Есть ли вообще наш родной берег? Хочешь назвать родным берег страны, которой правит кровавый тиран? Ты отдаешь себе отчет в том, что там тебя ждет?!»
Интересно, почему называем эти явления голосами, они ведь не звучат – ни громко, ни шепотом! А мы слышим их как бы нутром. Голоса без звука – какой парадокс!
Не помню, когда начали преследовать меня эти противоречивые голоса. Кажется, еще с кровавых двадцатых годов. Они звучали во мне, разные, неожиданные, где-то там, в глубине, то задавая неудобные, мучительные вопросы, то осуждая или подбадривая. Иногда голоса шумели в голове, в ушах, не давая покоя. Они стали моими мучителями и учителями одновременно.
И я все-таки повернул. Меня манила к себе родная земля, мой аул, моя родня, мой очаг. В сердце звучали голоса матери, Халимы, детей:
«Вернись живым! Вернись, наперекор всему!»
Не знаю, поймет меня сегодняшняя молодежь или скажет: «Вот, дурак! Ему предлагали бесплатно на корабле уплыть в Америку, страну грез, купаться в синей океанской воде и в потоке зеленых долларов, жить свободно и подчиняться только закону, а он отказался! Во имя чего? Чтобы валяться в лагерной грязи, блуждать в дебрях бесправия и жестокой советской действительности? В лучшем случае влачить жалкое существование в степных совхозах, где нет даже элементарных жилищных условий?»
Может, отчасти они правы. Но им не понять того глубокого чувства любви к родной земле, к ковыльным просторам степи, к запаху полыни – жусана. Надо родиться в степи, чтобы понять это. Тяга к родным местам была настолько сильной, что соблазн сладкой свободной жизни и великой американской мечты не могли перетянуть меня на чужбину.
Я решительно вернулся в свою героическую и коварную, добрую и жестокую, честную и чудовищную страну с твердой решимостью принять все то, что придется пережить.
Была надежда и на прощение. Среди пленных ходили слухи, что Сталин приказал оправдать всех наших солдат, попавших в плен, но до этого храбро воевавших с фашистами, проливавших свою кровь за Родину. Тогда мне, больше трех лет сражавшегося на передовой, трижды раненого – дважды тяжело и один раз легко – имеющего боевые награды, вообще бояться нечего. Говорили, что об этом объявили генералы, передавали по радио, писали в газетах. И многие поверили обещанию военно-политической верхушки и вернулись домой.
Только потом, по прошествии многих лет, я читал где-то, что действительно было такое постановление, но оно было правдивым не для всех. То есть, многих действительно простили и восстановили во всех правах, а других посадили.
Моя участь оказалась тяжелой.
Лагерь
На Родине нас, своих солдат, бывших в плену у немцев, встретили холодно. Проверили, обсудили и отправили кого куда. Кто-то поехал домой, кто-то на службу, а кто в лагеря. Мне выпала путевка в Сибирь на десять лет! От расстрела, пожалуй, спасли три ранения на передовой, орден Красной Звезды и высшая солдатская награда за личный подвиг – медаль «За Отвагу», которые отобрали.
Обвинения были нелепыми. «Почему попал в плен, а не погиб, как подобает советскому солдату, героической смертью?» Естественно, я не мог брякнуть в лицо суровым судьям, что не хотел и не хочу погибать за таких тиранов, скажите спасибо за то, что вообще воевал!
Сказал, как было на самом деле.
Судилище быстро вынесло приговор. Эти шесть месяцев плена перевесили три года войны на передовой. Главное обвинение заключалось в том, что, якобы, я умышленно сдался в плен, поддался враждебной агитации туркестанцев и работал на немцев. Никаких оправданий даже слышать не хотели.
Отправили меня на край света вместе с такими же горемыками в спецвагонах. Потом пересадили в грузовики. Мы даже понятия не имели, куда едем. Только после мучительно долгого переезда, когда прибыли на место, узнали, что попали в местечко Сусуман. Название запомнилось сразу, оно напоминало казахское слово су – вода и сусу – скольжение, течение.
Позже узнал, что речку Сусуман, приток Колымы, которая текла рядом с лагерем, эвены называли Кухуман, что означает буран, поземка. Точно, скользит поземка, течет речка!
Сведущие зеки говорили, что этот лагерь находится аж в Магаданской области, на крайнем севере, дальше самого Магадана. Оказывается, отсюда до Оймякона рукой подать. Про Оймякон все наслышаны – самая холодная точка планеты. Название Оймякон напоминает казахское слово Ой мекен – место обитание в низменности.
Климат Сусумана сверхсуровый, зимой морозы доходили до шестидесяти градусов. Поговаривали зеки, что эти места – самые холодные на земле. Люди мерзли, болели, нередко умирали от истощения. Умерших заключенных тихо хоронили и ставили таблички с номером – и конец! Когда видишь такое, так не хочется умирать! Да ведь никто потом не найдет, не прочтет молитву на твоей могиле! Так и сгинешь в неизвестности. Ходили слухи среди зеков, что недалеко отсюда и Долина смерти, при одном упоминании которой все умолкали от ужаса. Страх смерти напоминал о себе каждому. Любой из нас, если в чем-то провинится перед кем-то, мог исчезнуть в любой день и час. Люди умирали не только от мороза, но и от руки отморозков. Поговаривали, что даже краснопогонники особо не церемонились с неугодными, норовистыми, и при удобном случае, тех, кто посмел перечить им, пускали в расход «при попытке к бегству».
Что и говорить-то, приходилось выживать в нечеловеческих условиях, созданных человеком для человека.
Но при всех ужасах, лагерная жизнь имела и свои плюсы по сравнению с передовой. Во-первых, по тебе денно и нощно не бьют из пушек и пулеметов, не бомбят самолеты. Во-вторых, все-таки есть какой-то порядок, закон, хоть и жестокий. И шанс выжить несравненно выше, чем на войне.
Сначала было очень тоскливо, но постепенно начал привыкать к новой обстановке. Я принял все это спокойно, как неизбежность.
Лагерные дни тянулись медленно. Интересно, когда месяцы и годы идут однообразно, то скучная череда серых будней тянутся, кажется, бесконечно. Но когда все-таки проходит это время, и ты оглядываешься назад, то оно кажется тебе коротким отрезком пути, окрашенным в один невыразительный серый цвет. Вот так, небогатые событиями первые пять лет прошли сравнительно тихо, если не считать мелких склок и столкновений зеков, окриков начальников и рутинную работу. В Сусумане добывали золото, поговаривали, что здешние прииски считаются одними из самых богатых на земле. Мне повезло – работал на лесозаготовках. Пилить лес все-таки легче и привычнее, чем дробить камень в стужу. Жили в длинных, низких каменных и деревянных бараках, с железными ограждениями, построенных самими же зеками. Кормили сравнительно неплохо, скорее всего, не от жалости, а просто как необходимую рабочую силу. Горячая тюремная баланда казалась такой вкусной после тяжелой работы.