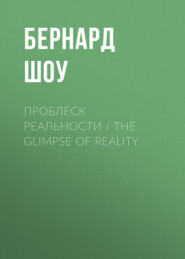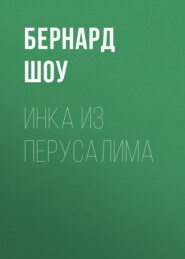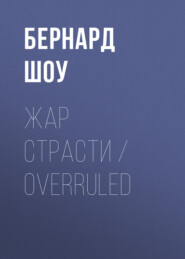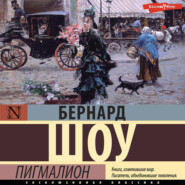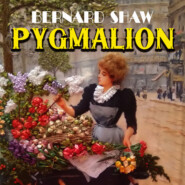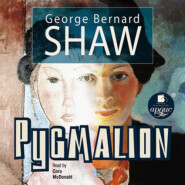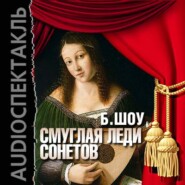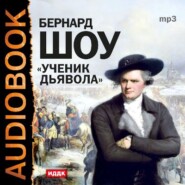По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пигмалион
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пигмалион
Джордж Бернард Шоу
PocketBook (Эксмо)
Крупнейший английский драматург конца XIX – первой половины XX в. Джордж Бернард Шоу (1856–1950) в своих произведениях выступает как мастер интеллектуальной драмы-дискуссии, построенной на острых диалогах, полной парадоксальных ситуаций, разрушающей все традиционные представления о театре. Его пьесы бичуют политическую реакцию, нормативную мораль, лицемерие, ханжество. В 1925 г. писателю была присуждена Нобелевская премия.
Бернард Шоу
Пигмалион
Предисловие
Профессор фонетики
Как станет понятно далее, «Пигмалион» нуждается не столько в предисловии, сколько в заключении, каковое вы и отыщете в надлежащем месте.
Англичане не уважают свой язык и не стремятся обучить собственных детей правильно говорить на нем. Они не могут адекватно записывать свою речь, так как у них нет для этого ничего, кроме старого иностранного алфавита, в коем лишь согласные – да и то не все – имеют общепринятые звуковые соответствия. Следовательно, никто не способен освоить его звучание посредством чтения, а потому, едва открыв рот, любой англичанин непременно вызывает неприязнь у какого-либо своего соотечественника. Большинство европейских языков давно доступны иностранцам в записи черным по белому; английский и французский не доступны в этой форме даже самим англичанам и французам. Сегодня нам более всего необходим реформатор в лице энергичного фонетиста-энтузиаста – вот почему я сделал такого человека героем популярной пьесы.
Голоса подобных героев, словно глас вопиющего в пустыне, раздаются на нашей родине в течение многих лет. В конце 1870-х, когда я впервые заинтересовался этой темой, великолепный Александр Мелвилл Белл, изобретатель «видимой речи», уже эмигрировал в Канаду, где его сын изобрел телефон, но Александер Дж. Эллис был еще лондонским патриархом; его внушительную голову всегда прикрывала круглая бархатная шапочка, за что он чрезвычайно вежливо извинялся на публичных собраниях. К нему и Тито Пальярдини, второму ветерану фонетики, нельзя было относиться иначе, нежели с симпатией. Генри Свит, в ту пору еще юноша, не обладал присущей им мягкостью характера; обыкновенные смертные вызывали у него не больше нежных чувств, чем у Ибсена и Сэмюэла Батлера. Незаурядный дар Свита (думаю, среди специалистов по фонетике он был самым лучшим) снискал бы этому ученому высокое официальное признание и, возможно, помог бы ему популяризировать свой предмет, если бы не его демоническое презрение к сановникам от науки и вообще ко всем, кто ставил греческий выше фонетики. Однажды – это было в те дни, когда в Южном Кенсингтоне вырос Имперский институт, а Джозеф Чемберлен без устали раздвигал пределы империи, – я убедил редактора одного ведущего ежемесячника принять от Свита статью, доказывающую всебританскую значимость его предмета. По получении этой статьи выяснилось, что она не содержит ничего, кроме издевательских нападок на некоего профессора английского языка и литературы, чье место, по убеждению Свита, следовало занимать только знатоку фонетики. Материал отклонили как клеветнический и решительно не пригодный для публикации, а мне пришлось распрощаться с мечтой привлечь внимание широкой публики к его автору. Встретившись с ним лично после многолетнего перерыва, я, к своему удивлению, обнаружил, что этот во время оно весьма приличный молодой человек умудрился посредством одного лишь презрения так изменить свою внешность и манеры, что сделался как бы ходячим отрицанием Оксфорда и всех его традиций. Как ни странно, его все же уговорили занять там должность преподавателя фонетики. Возможно, будущее этой науки теперь в руках его учеников, буквально молившихся на него, однако ничто не могло подвигнуть самого мэтра даже на малейшие уступки университету, принадлежать к коему по духу и складу было, впрочем, назначено ему самою судьбой. Осмелюсь высказать догадку, что в его бумагах, если он оставил таковые, отыщутся сатирические зарисовки, которые можно будет опубликовать без слишком уж катастрофических результатов лет этак через пятьдесят. При всем при том я не считаю, что у него был дурной характер, и даже наоборот; просто он не принадлежал к тем, кто охотно мирится с чужой глупостью, а ему казались непроходимо глупыми все ученые, не питавшие страстной любви к фонетике.
Люди, знавшие Свита, увидят в моем третьем акте намек на оригинальную стенографическую систему, которой он пользовался при написании открыток и руководство к которой, изданное «Кларендон пресс», можно приобрести за четыре с половиной шиллинга. Я сам получал от Свита открытки, подобные тем, что описывает миссис Хиггинс. Расшифровав звук, который кокни передал бы как «зерр», а француз как «зе», я недоуменно и, признаюсь, с долей раздражения осведомлялся в ответном письме, что это, черт возьми, может означать. С безграничной снисходительностью, явно сожалея о моей тупости, Свит пояснял, что это не только может, но и означает слово «результат», ибо ни в одном языке мира не существует иного слова, содержащего данный звук и уместного в данном контексте. То, что менее искушенным смертным могут потребоваться более подробные указания, выводило его из себя. Таким образом, хотя его «плавная скоропись» и предназначена для точного отображения любого звука в языке, как гласного, так и согласного, причем ваша рука должна выводить только легкие и плавные линии, как при написании букв m, n и u, l, p и q под любым удобным вам углом, его упорное стремление использовать эту хорошую и вполне понятную систему в качестве стенографической приводило к возникновению самых что ни на есть загадочных криптограмм. Его истинной целью была разработка полной, точной, удобочитаемой системы записи для нашего благородного, но плохо оформленного языка, однако он сбился с пути из-за презрения к популярной стенографической системе Питмана, которую считал абсолютно неудачной. Триумф Питмана был триумфом деловой организации: вас убеждали изучать Питмана в еженедельной газете, вы могли покупать дешевые пособия и тетради для упражнений, а также копировать записи речей, сделанные по его системе, а в школах работали опытные учителя, помогавшие вам достичь необходимой сноровки в ее применении. Свит не мог составить всему этому достойную конкуренцию. Он напоминал Сивиллу, разорвавшую листы с пророчеством, на которое никто не обращал внимания. Может быть, в один прекрасный день какой-нибудь синдикат заинтересуется его руководством за четыре с половиной шиллинга (в основном это литографическое воспроизведение текстов, написанных им от руки) и, не брезгуя пошлой рекламой, навяжет его публике, как «Таймс» навязал ей энциклопедию «Британника», но до тех пор Свиту определенно не победить Питмана. Сам я за всю жизнь купил три экземпляра его труда и слышал от издателей, что он пользуется устойчивым, хотя и ограниченным спросом. Дважды, в разные годы, я обучался его значкам, однако авторство системы, с помощью которой я пишу сейчас эти строки, принадлежит Питману. Причина проста: моя секретарша не может расшифровать запись по Свиту, поскольку в школе ей волей-неволей пришлось овладеть питмановской. В Америке я мог бы пользоваться коммерчески подкрепленной системой Грегга, который позаимствовал у Свита идею сделать буквы удобными для письма (плавными, как сказал бы Свит), а не угловатыми, как у Питмана; но все эти системы испорчены тем, что их приспособили для стенографирования, а в этом случае точная передача звуков и разделения речи на слова становится невозможной. Полная и точная фонетическая транскрипция неудобна с практической точки зрения и не нужна в обычной жизни, но если мы увеличим свой алфавит до размеров русского и сделаем наше правописание столь же фонетически достоверным, как у испанцев, прогресс будет огромным.
Пигмалион Хиггинс – отнюдь не копия Свита, для которого приключение с Элизой Дулитл было бы невозможно; однако, как вы убедитесь, Свит оставил в пьесе свои следы. Будь у него хиггинсовские здоровье и темперамент, Свит мог бы поджечь Темзу. И даже без оных ему удалось произвести на Европу настолько сильное впечатление, что его относительная малоизвестность на родине вкупе с нежеланием Оксфорда воздать ему должное весьма озадачивали его коллег с континента. Я не виню Оксфорд, ибо считаю, что он вправе требовать от своих питомцев некоторой лояльности (Бог свидетель, эти требования нельзя назвать чрезмерными!). Мне хорошо известно, как нелегко одаренному человеку, чья область интересов явно недооценена, поддерживать теплые и дружеские отношения с людьми, которые ее недооценивают и занимают все лучшие места, преподавая менее важные дисциплины не только без огонька, но зачастую и без достаточно глубоких знаний о них, но все же, если он обрушивает на этих людей свой гнев и презрение, не стоит ожидать, что в ответ его будут осыпать почестями.
О следующих поколениях фонетистов я знаю мало. Среди них высится Роберт Бриджес, коему Хиггинс, возможно, обязан своим преклонением перед Мильтоном, хотя и здесь я должен отвергнуть всякое портретное сходство. Но если моя пьеса помогает публике осознать, что на свете есть такие люди, как фонетисты, и что в настоящее время они представляют собой весьма важные для Англии персоны, я могу считать свою цель достигнутой.
Хочу похвастаться, что «Пигмалион» в обеих версиях, сценической и экранной, имеет чрезвычайный успех не только на родине, но и во всей Европе, а также в Северной Америке. Эта пьеса столь откровенно и умышленно поучительна, а ее предмет почитается столь сухим, что я с большим удовольствием ткну ею в нос тем умникам, которые с попугайским упорством твердят, будто поучительность противопоказана искусству. Она подтверждает мое мнение о том, что истинному искусству противопоказана не поучительность, а ее отсутствие.
В заключение – и в утешение тем, кому из-за своих речевых недостатков не удается сделать карьеру, – я добавлю, что метаморфоза, происшедшая с цветочницей благодаря стараниям профессора Хиггинса, вовсе не является такой уж чудесной или уникальной. Наша домашняя прислуга и продавцы в вест-эндских магазинах двуязычны. Дочь консьержа, которая в наше время удовлетворяет свое честолюбие, играя в «Рюи Блазе» на сцене «Комеди франсез» испанскую королеву, – лишь одна из многих тысяч мужчин и женщин, избавившихся от своего привычного выговора ради того, чтобы обрести новый язык. Однако эта задача требует научного подхода, иначе результат вполне может оказаться противоположным. Простой и натуральный трущобный говор легче снести, чем попытку не искушенной в фонетике личности имитировать манеру речи, принятую среди богачей. Честолюбивым цветочницам, прочитавшим эту пьесу, не стоит думать, будто они сумеют выдать себя за леди без всякого труда. Для этого им придется заново выучить весь алфавит с помощью фонетиста-профессионала. Примитивное подражание приведет лишь к тому, что они выставят себя на посмешище.
Техническое примечание
Полная постановка пьесы в том виде, в каком она впервые публикуется в этом издании, технически возможна только на киноэкране либо на сцене, снабженной сложным механическим оборудованием. Обычным театрам, желающим включить ее в свой репертуар, рекомендуется опустить эпизоды, отмеченные звездочками.
Действие первое
Лондон в 11.15 вечера. С неба низвергаются потоки воды. Отовсюду доносятся истерические автомобильные гудки. Прохожие спасаются от летнего ливня под портиком церкви Святого Павла (не собора, построенного Реном, а церкви Иниго Джонса на овощном рынке Ковент-гарден); среди них Дама средних лет и ее Дочь в вечерних платьях. Все мрачно смотрят на струи дождя, и только один Мужчина повернулся спиной к остальным и сосредоточенно строчит что-то у себя в блокноте.
Церковные часы бьют четверть.
Дочь (между центральными колоннами, рядом с правой, если смотреть из зала). Продрогла до костей. Куда пропал Фредди? Целых двадцать минут где-то ходит.
Мать (по правую руку от дочери). По-моему, меньше. Но все равно, пора бы ему уже поймать нам такси.
Посторонний (по правую руку от дамы). Не видать вам никакого такси до полдвенадцатого, уважаемая. Развезут которых из театра, тогда и вернутся.
Мать. Но нам очень нужно такси. Мы не можем стоять здесь до половины двенадцатого. Это никуда не годится.
Посторонний. Я тут ни при чем, уважаемая.
Дочь. Был бы наш Фредди пошустрее, так поймал бы какое-нибудь у театра.
Мать. Разве он виноват, бедный мальчик!
Дочь. Другие-то раздобыли такси. А он почему не мог?
Из-под дождя со стороны Саутгемптон-стрит прибегает Фредди и втискивается между ними, стряхивая с зонтика воду. Это юноша двадцати лет в вечернем костюме; брюки у него снизу совсем промокли.
Дочь. Ну что, поймал такси?
Фредди. Хоть умри, никто не везет.
Мать. Ах, Фредди, быть этого не может. Наверное, ты плохо искал.
Дочь. Он утомился, бедняжечка. Хочешь, чтобы мы сами отправились?
Фредди. Говорю вам, они все заняты. Дождь полил так внезапно – застал людей врасплох, вот они и бросились ловить такси. Я добежал до Чаринг-Кросс в одну сторону и почти до Ладгейт-серкус в другую, и все заняты.
Мать. А на Трафальгарской площади пробовал?
Фредди. Не было там такси.
Дочь. Ты скажи, пробовал?
Фредди. Я даже на Чаринг-Кросском вокзале был. Хотите загнать меня в Хаммерсмит?
Дочь. И вовсе ты не пробовал.
Мать. Какой ты беспомощный, Фредди. Иди снова и без такси не возвращайся.
Фредди. Промокну зря, вот и все.
Дочь. А о нас ты подумал? Хочешь, чтобы мы простояли всю ночь под этим ливнем почти что голые. Ну и эгоист же ты…
Фредди. Ладно, ладно. Иду. (Раскрывает зонтик и бросается в направлении Стрэнда, но налетает на цветочницу, которая спешит спрятаться под портиком, и выбивает у нее из рук корзину. Столкновение сопровождается ослепительной вспышкой молнии и немедленно вслед за нею – оглушительным раскатом грома.)
Цветочница. Эй, Фредди! Смотри, куда идешь!
Фредди. Простите. (Убегает.)
Цветочница (поднимает рассыпанные цветы и снова кладет их в корзину). Ну и манеры! Два букета мне раздавил. (Она садится на цоколь колонны, по правую руку от дамы, и перебирает цветы. Это малопривлекательная особа. Ей лет восемнадцать-двадцать, не больше. На голове у нее маленькая черная соломенная шляпка, собравшая на себя значительное количество лондонской пыли и копоти и явно почти не знакомая со щеткой. Волосы девушке тоже не мешало бы помыть: их мышиный цвет едва ли может быть естественным. На ней дешевое черное пальтецо, еле достающее до колен и слегка приталенное, коричневая юбка и грубый передник. Ботинки в плачевном виде. Она, несомненно, следит за собой настолько, насколько позволяют ее средства, но по сравнению с дамами выглядит очень грязной. Черты лица у нее не хуже, но их состояние оставляет желать лучшего; кроме того, ей требуются услуги дантиста.)
Мать. Откуда ты знаешь, что моего сына зовут Фредди, милочка?
Цветочница. Так он ваш сынок? Хорошо вы его воспитали: загубил товар у бедной девушки и удрал не заплативши. Вы, что ль, платить будете?
Дочь. И не вздумай, мама. Ишь, хитрая!
Мать. Тихо, Клара. У тебя есть мелочь?
Джордж Бернард Шоу
PocketBook (Эксмо)
Крупнейший английский драматург конца XIX – первой половины XX в. Джордж Бернард Шоу (1856–1950) в своих произведениях выступает как мастер интеллектуальной драмы-дискуссии, построенной на острых диалогах, полной парадоксальных ситуаций, разрушающей все традиционные представления о театре. Его пьесы бичуют политическую реакцию, нормативную мораль, лицемерие, ханжество. В 1925 г. писателю была присуждена Нобелевская премия.
Бернард Шоу
Пигмалион
Предисловие
Профессор фонетики
Как станет понятно далее, «Пигмалион» нуждается не столько в предисловии, сколько в заключении, каковое вы и отыщете в надлежащем месте.
Англичане не уважают свой язык и не стремятся обучить собственных детей правильно говорить на нем. Они не могут адекватно записывать свою речь, так как у них нет для этого ничего, кроме старого иностранного алфавита, в коем лишь согласные – да и то не все – имеют общепринятые звуковые соответствия. Следовательно, никто не способен освоить его звучание посредством чтения, а потому, едва открыв рот, любой англичанин непременно вызывает неприязнь у какого-либо своего соотечественника. Большинство европейских языков давно доступны иностранцам в записи черным по белому; английский и французский не доступны в этой форме даже самим англичанам и французам. Сегодня нам более всего необходим реформатор в лице энергичного фонетиста-энтузиаста – вот почему я сделал такого человека героем популярной пьесы.
Голоса подобных героев, словно глас вопиющего в пустыне, раздаются на нашей родине в течение многих лет. В конце 1870-х, когда я впервые заинтересовался этой темой, великолепный Александр Мелвилл Белл, изобретатель «видимой речи», уже эмигрировал в Канаду, где его сын изобрел телефон, но Александер Дж. Эллис был еще лондонским патриархом; его внушительную голову всегда прикрывала круглая бархатная шапочка, за что он чрезвычайно вежливо извинялся на публичных собраниях. К нему и Тито Пальярдини, второму ветерану фонетики, нельзя было относиться иначе, нежели с симпатией. Генри Свит, в ту пору еще юноша, не обладал присущей им мягкостью характера; обыкновенные смертные вызывали у него не больше нежных чувств, чем у Ибсена и Сэмюэла Батлера. Незаурядный дар Свита (думаю, среди специалистов по фонетике он был самым лучшим) снискал бы этому ученому высокое официальное признание и, возможно, помог бы ему популяризировать свой предмет, если бы не его демоническое презрение к сановникам от науки и вообще ко всем, кто ставил греческий выше фонетики. Однажды – это было в те дни, когда в Южном Кенсингтоне вырос Имперский институт, а Джозеф Чемберлен без устали раздвигал пределы империи, – я убедил редактора одного ведущего ежемесячника принять от Свита статью, доказывающую всебританскую значимость его предмета. По получении этой статьи выяснилось, что она не содержит ничего, кроме издевательских нападок на некоего профессора английского языка и литературы, чье место, по убеждению Свита, следовало занимать только знатоку фонетики. Материал отклонили как клеветнический и решительно не пригодный для публикации, а мне пришлось распрощаться с мечтой привлечь внимание широкой публики к его автору. Встретившись с ним лично после многолетнего перерыва, я, к своему удивлению, обнаружил, что этот во время оно весьма приличный молодой человек умудрился посредством одного лишь презрения так изменить свою внешность и манеры, что сделался как бы ходячим отрицанием Оксфорда и всех его традиций. Как ни странно, его все же уговорили занять там должность преподавателя фонетики. Возможно, будущее этой науки теперь в руках его учеников, буквально молившихся на него, однако ничто не могло подвигнуть самого мэтра даже на малейшие уступки университету, принадлежать к коему по духу и складу было, впрочем, назначено ему самою судьбой. Осмелюсь высказать догадку, что в его бумагах, если он оставил таковые, отыщутся сатирические зарисовки, которые можно будет опубликовать без слишком уж катастрофических результатов лет этак через пятьдесят. При всем при том я не считаю, что у него был дурной характер, и даже наоборот; просто он не принадлежал к тем, кто охотно мирится с чужой глупостью, а ему казались непроходимо глупыми все ученые, не питавшие страстной любви к фонетике.
Люди, знавшие Свита, увидят в моем третьем акте намек на оригинальную стенографическую систему, которой он пользовался при написании открыток и руководство к которой, изданное «Кларендон пресс», можно приобрести за четыре с половиной шиллинга. Я сам получал от Свита открытки, подобные тем, что описывает миссис Хиггинс. Расшифровав звук, который кокни передал бы как «зерр», а француз как «зе», я недоуменно и, признаюсь, с долей раздражения осведомлялся в ответном письме, что это, черт возьми, может означать. С безграничной снисходительностью, явно сожалея о моей тупости, Свит пояснял, что это не только может, но и означает слово «результат», ибо ни в одном языке мира не существует иного слова, содержащего данный звук и уместного в данном контексте. То, что менее искушенным смертным могут потребоваться более подробные указания, выводило его из себя. Таким образом, хотя его «плавная скоропись» и предназначена для точного отображения любого звука в языке, как гласного, так и согласного, причем ваша рука должна выводить только легкие и плавные линии, как при написании букв m, n и u, l, p и q под любым удобным вам углом, его упорное стремление использовать эту хорошую и вполне понятную систему в качестве стенографической приводило к возникновению самых что ни на есть загадочных криптограмм. Его истинной целью была разработка полной, точной, удобочитаемой системы записи для нашего благородного, но плохо оформленного языка, однако он сбился с пути из-за презрения к популярной стенографической системе Питмана, которую считал абсолютно неудачной. Триумф Питмана был триумфом деловой организации: вас убеждали изучать Питмана в еженедельной газете, вы могли покупать дешевые пособия и тетради для упражнений, а также копировать записи речей, сделанные по его системе, а в школах работали опытные учителя, помогавшие вам достичь необходимой сноровки в ее применении. Свит не мог составить всему этому достойную конкуренцию. Он напоминал Сивиллу, разорвавшую листы с пророчеством, на которое никто не обращал внимания. Может быть, в один прекрасный день какой-нибудь синдикат заинтересуется его руководством за четыре с половиной шиллинга (в основном это литографическое воспроизведение текстов, написанных им от руки) и, не брезгуя пошлой рекламой, навяжет его публике, как «Таймс» навязал ей энциклопедию «Британника», но до тех пор Свиту определенно не победить Питмана. Сам я за всю жизнь купил три экземпляра его труда и слышал от издателей, что он пользуется устойчивым, хотя и ограниченным спросом. Дважды, в разные годы, я обучался его значкам, однако авторство системы, с помощью которой я пишу сейчас эти строки, принадлежит Питману. Причина проста: моя секретарша не может расшифровать запись по Свиту, поскольку в школе ей волей-неволей пришлось овладеть питмановской. В Америке я мог бы пользоваться коммерчески подкрепленной системой Грегга, который позаимствовал у Свита идею сделать буквы удобными для письма (плавными, как сказал бы Свит), а не угловатыми, как у Питмана; но все эти системы испорчены тем, что их приспособили для стенографирования, а в этом случае точная передача звуков и разделения речи на слова становится невозможной. Полная и точная фонетическая транскрипция неудобна с практической точки зрения и не нужна в обычной жизни, но если мы увеличим свой алфавит до размеров русского и сделаем наше правописание столь же фонетически достоверным, как у испанцев, прогресс будет огромным.
Пигмалион Хиггинс – отнюдь не копия Свита, для которого приключение с Элизой Дулитл было бы невозможно; однако, как вы убедитесь, Свит оставил в пьесе свои следы. Будь у него хиггинсовские здоровье и темперамент, Свит мог бы поджечь Темзу. И даже без оных ему удалось произвести на Европу настолько сильное впечатление, что его относительная малоизвестность на родине вкупе с нежеланием Оксфорда воздать ему должное весьма озадачивали его коллег с континента. Я не виню Оксфорд, ибо считаю, что он вправе требовать от своих питомцев некоторой лояльности (Бог свидетель, эти требования нельзя назвать чрезмерными!). Мне хорошо известно, как нелегко одаренному человеку, чья область интересов явно недооценена, поддерживать теплые и дружеские отношения с людьми, которые ее недооценивают и занимают все лучшие места, преподавая менее важные дисциплины не только без огонька, но зачастую и без достаточно глубоких знаний о них, но все же, если он обрушивает на этих людей свой гнев и презрение, не стоит ожидать, что в ответ его будут осыпать почестями.
О следующих поколениях фонетистов я знаю мало. Среди них высится Роберт Бриджес, коему Хиггинс, возможно, обязан своим преклонением перед Мильтоном, хотя и здесь я должен отвергнуть всякое портретное сходство. Но если моя пьеса помогает публике осознать, что на свете есть такие люди, как фонетисты, и что в настоящее время они представляют собой весьма важные для Англии персоны, я могу считать свою цель достигнутой.
Хочу похвастаться, что «Пигмалион» в обеих версиях, сценической и экранной, имеет чрезвычайный успех не только на родине, но и во всей Европе, а также в Северной Америке. Эта пьеса столь откровенно и умышленно поучительна, а ее предмет почитается столь сухим, что я с большим удовольствием ткну ею в нос тем умникам, которые с попугайским упорством твердят, будто поучительность противопоказана искусству. Она подтверждает мое мнение о том, что истинному искусству противопоказана не поучительность, а ее отсутствие.
В заключение – и в утешение тем, кому из-за своих речевых недостатков не удается сделать карьеру, – я добавлю, что метаморфоза, происшедшая с цветочницей благодаря стараниям профессора Хиггинса, вовсе не является такой уж чудесной или уникальной. Наша домашняя прислуга и продавцы в вест-эндских магазинах двуязычны. Дочь консьержа, которая в наше время удовлетворяет свое честолюбие, играя в «Рюи Блазе» на сцене «Комеди франсез» испанскую королеву, – лишь одна из многих тысяч мужчин и женщин, избавившихся от своего привычного выговора ради того, чтобы обрести новый язык. Однако эта задача требует научного подхода, иначе результат вполне может оказаться противоположным. Простой и натуральный трущобный говор легче снести, чем попытку не искушенной в фонетике личности имитировать манеру речи, принятую среди богачей. Честолюбивым цветочницам, прочитавшим эту пьесу, не стоит думать, будто они сумеют выдать себя за леди без всякого труда. Для этого им придется заново выучить весь алфавит с помощью фонетиста-профессионала. Примитивное подражание приведет лишь к тому, что они выставят себя на посмешище.
Техническое примечание
Полная постановка пьесы в том виде, в каком она впервые публикуется в этом издании, технически возможна только на киноэкране либо на сцене, снабженной сложным механическим оборудованием. Обычным театрам, желающим включить ее в свой репертуар, рекомендуется опустить эпизоды, отмеченные звездочками.
Действие первое
Лондон в 11.15 вечера. С неба низвергаются потоки воды. Отовсюду доносятся истерические автомобильные гудки. Прохожие спасаются от летнего ливня под портиком церкви Святого Павла (не собора, построенного Реном, а церкви Иниго Джонса на овощном рынке Ковент-гарден); среди них Дама средних лет и ее Дочь в вечерних платьях. Все мрачно смотрят на струи дождя, и только один Мужчина повернулся спиной к остальным и сосредоточенно строчит что-то у себя в блокноте.
Церковные часы бьют четверть.
Дочь (между центральными колоннами, рядом с правой, если смотреть из зала). Продрогла до костей. Куда пропал Фредди? Целых двадцать минут где-то ходит.
Мать (по правую руку от дочери). По-моему, меньше. Но все равно, пора бы ему уже поймать нам такси.
Посторонний (по правую руку от дамы). Не видать вам никакого такси до полдвенадцатого, уважаемая. Развезут которых из театра, тогда и вернутся.
Мать. Но нам очень нужно такси. Мы не можем стоять здесь до половины двенадцатого. Это никуда не годится.
Посторонний. Я тут ни при чем, уважаемая.
Дочь. Был бы наш Фредди пошустрее, так поймал бы какое-нибудь у театра.
Мать. Разве он виноват, бедный мальчик!
Дочь. Другие-то раздобыли такси. А он почему не мог?
Из-под дождя со стороны Саутгемптон-стрит прибегает Фредди и втискивается между ними, стряхивая с зонтика воду. Это юноша двадцати лет в вечернем костюме; брюки у него снизу совсем промокли.
Дочь. Ну что, поймал такси?
Фредди. Хоть умри, никто не везет.
Мать. Ах, Фредди, быть этого не может. Наверное, ты плохо искал.
Дочь. Он утомился, бедняжечка. Хочешь, чтобы мы сами отправились?
Фредди. Говорю вам, они все заняты. Дождь полил так внезапно – застал людей врасплох, вот они и бросились ловить такси. Я добежал до Чаринг-Кросс в одну сторону и почти до Ладгейт-серкус в другую, и все заняты.
Мать. А на Трафальгарской площади пробовал?
Фредди. Не было там такси.
Дочь. Ты скажи, пробовал?
Фредди. Я даже на Чаринг-Кросском вокзале был. Хотите загнать меня в Хаммерсмит?
Дочь. И вовсе ты не пробовал.
Мать. Какой ты беспомощный, Фредди. Иди снова и без такси не возвращайся.
Фредди. Промокну зря, вот и все.
Дочь. А о нас ты подумал? Хочешь, чтобы мы простояли всю ночь под этим ливнем почти что голые. Ну и эгоист же ты…
Фредди. Ладно, ладно. Иду. (Раскрывает зонтик и бросается в направлении Стрэнда, но налетает на цветочницу, которая спешит спрятаться под портиком, и выбивает у нее из рук корзину. Столкновение сопровождается ослепительной вспышкой молнии и немедленно вслед за нею – оглушительным раскатом грома.)
Цветочница. Эй, Фредди! Смотри, куда идешь!
Фредди. Простите. (Убегает.)
Цветочница (поднимает рассыпанные цветы и снова кладет их в корзину). Ну и манеры! Два букета мне раздавил. (Она садится на цоколь колонны, по правую руку от дамы, и перебирает цветы. Это малопривлекательная особа. Ей лет восемнадцать-двадцать, не больше. На голове у нее маленькая черная соломенная шляпка, собравшая на себя значительное количество лондонской пыли и копоти и явно почти не знакомая со щеткой. Волосы девушке тоже не мешало бы помыть: их мышиный цвет едва ли может быть естественным. На ней дешевое черное пальтецо, еле достающее до колен и слегка приталенное, коричневая юбка и грубый передник. Ботинки в плачевном виде. Она, несомненно, следит за собой настолько, насколько позволяют ее средства, но по сравнению с дамами выглядит очень грязной. Черты лица у нее не хуже, но их состояние оставляет желать лучшего; кроме того, ей требуются услуги дантиста.)
Мать. Откуда ты знаешь, что моего сына зовут Фредди, милочка?
Цветочница. Так он ваш сынок? Хорошо вы его воспитали: загубил товар у бедной девушки и удрал не заплативши. Вы, что ль, платить будете?
Дочь. И не вздумай, мама. Ишь, хитрая!
Мать. Тихо, Клара. У тебя есть мелочь?