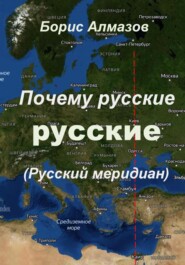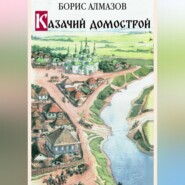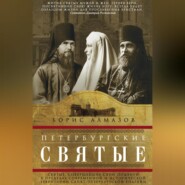По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога на Стамбул. Первая часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Солдаты, потерявшие половину своих однополчан в схватке с казаками, получившие к тому же тройную порцию водки, осатанели. В зачет не шли ни чины, ни георгиевские кресты – от веку избавлявшие кавалеров от телесных наказаний, ни награды за Польский поход, ни возраст, ни даже участие в войне 1812 года.
– Что творили с нами – пересказать невозможно! Вот я в «Русском инвалиде» читаю про то, как турки над славянами зверствуют, так у нас многие не верят… что такое возможно… А я говорю: что турки? Я такое сам видел! Сам! – расплескивая с блюдечка чай, шептал, глядя исплаканнымм, оловянными глазами куда-то мимо Осипа, Гаврила Дмитрич. – И не турки, а наши, русские! К исходу экзекуции хуторских казачат под вой обезумевших матерей покидали на телеги и развезли под конвоем по гвардейским полкам.
Алексей Зеленов – десяти лет, Демьян Калмыков – двенадцати, Антип Горелый – тринадцати и четырнадцатидетний Гаврила попали в лейб-гвардии Атаманский полк. Полк строгий, поскольку был он гвардейским, столичным, тем более строгим к мальчишкам-казачатам, которым здесь не дозволялись даже те мелкие радости, что выпадали на долю их сверстникам-кантонистам в других полках.
Повествуя о горько-сиротском своем детстве, Гаврила Дмитрич, не стыдясь, плакал, утираясь красным фуляровым платком и высмаркивая свой красный же солдатский нос.
Старик перечислял всех своих немногих земляков, что разметала судьба по просторам империи, на Кавказ, в царство Польское и княжество Финляндское… Но Осипу чудилось, что старик чего-то недоговаривает. Он не мог расспросить подробнее – это было бы неучтиво, да и невозможно при тогдашнем его состоянии. Скорее всего сообразил он о недосказанном уже много месяцев спустя, когда вернулся в свой полк. «А что же с моим-то отцом стало? Ведь Гаврила Дмитрич сказал, что и Демьян и Антипа – живы. Почему нет отца?» – думал он позже.
2. Осип загулял. Тосклив и страшен был его загул, не было в нем ни веселья, ни даже пьяной бесшабашности. Он покорно ходил с новыми своими товарищами в рабочие слободки, сидел вместе с ними за столами, пел и плясал под гармонику, пил водку и даже дрался с рабочими, которые сильно не любили казаков (и было за что), потому в слободку на берегу Невы ходили партиями по нескольку человек, обязательно вооружась нагайками.
Работницы жили в казармах и небольших домиках, по нескольку человек в комнате, вот там-то и гуляли казаки, там и ловили за ситцевыми занавесками «случаи…»
За ситцевой занавеской и проснулся Осип в один из воскресных дней. Похмельная голова гудела, и подкатывала тошнота при каждом движении. Он разобрал ругань и разговор женских визгливых голосов:
– Сволочи кудлатые! Беспременно они украли! Кобели паршивые. Напаскудят да еще и обворуют… – Дальше шла уж вовсе непотребная брань, к которой Осип никак не мог привыкнуть, особенно если ругалась женщина, – делалось ему муторно и тоскливо.
Он поднялся. Отодвинул занавеску. В тесной комнате, разгороженной занавесками на несколько частей, по полу ползала простоволосая баба в юбке и нижней рубахе, ее товарка смеялась, прислонясь к косяку.
– Вона! – сказала она, кивая на Осипа. – Вона кавалер твой поднялся!
– Да черт его принес! Да и не мой он вовсе! – похмельным голосом кричала простоволосая. – Это Томкин хахаль! Она его вчерась заволокла…
«Какая Томка?» – подумал Осип, кроме страшной головной боли чувствуя ужасную стыдную гадливость к этим бабам, к этой комнате, к постели, на которой сидел, к гребенке и шпилькам на табуретке у изголовья…
Ему ужасно захотелось вымыться! Или хотя бы искупаться! Чтобы смыть с себя сальный омерзительный пот этой ночи и жирный запах Томкиной не то помады, не то духов.
– Ну что уставился! – обернула она к Осипу красное пористое лицо, нисколько не стыдясь своей наготы. – Ваши кобели вчерась тут ночевали, мало что перебили да заблевали все – напоследок новы ботинки сволокли.
– Не-е-е, не может быть! – промычал Осип, поражаясь своему совершенно незнакомому голосу.
– Что «не может»! Что «не может»! – завопила баба. – Это завсегда ваша казацкая манера напаскудить!
– Ты, бабочка, говори да откусывай! – попытался приструнить ее Осип.
– Чаво? Чаво? – подбоченясь, наступала на него работница. – Таперя ищщи ботинки непременно у кабатчика… Сволочи мордастые.
– А где Томка-то? – спросила стоявшая у двери.
– Да вот энтому за опохмелочным шкаликом понеслася! Дура! До чего до кобелей жадна, дак смотреть ужасть! Навела вчерась мазуриков…
Осип встал пошатываясь. Торопливо отыскал шаровары, мундир. Оделся.
– Ежели наши пошутили, – сказал он, выходя из-за занавески, – зараз принесу…
– Как жа! Уж небось пропили мою обувку… – перекладывая свои слова такими визгливыми матюгами, что невозможно было слышать, орала простоволосая.
– Ты бы назад не ходил один-то, – посоветовала, лениво отодвигаясь в дверном проеме и давая Осипу дорогу, ее подруга. – Нонеча воскресенье, все ребята дома – изобьют.
– Ишо посмотрим, кто кого, – ответил Осип, понимая, что беспременно изобьют. Как навалятся скопом… И нагайкой не отмахаешься.
– Не храбрись! – усмехнулась работница. – Двинут под ребра финкой и будешь потом в Неве виноватого искать… Что ж тебя дружки-то одного тут бросили?
– Они-то его искали! – встряла простоволосая. – Да Томка заверила, что, мол, нет его, ушедши… Они ще говорят: брезгует малахольный нашим кумпанейством… А он за занавеской уснумши был… Его Томка нипочем до утра отдавать не хотела…
Осип вышел в коридор.
– Эй, казак, – крикнула ему вдогонку работница. – Ступай через огород и переулком мимо фабрики. Там никого не будет – все нынче на сходку пошли к школе.
Зеленов не испытывал судьбу и пошел, как она наказывала. На воздухе ему стало легче. Но неотвязные мысли о своей неприкаянности снова полезли в голову.
«Вот такие „Томки" и есть моя будущая планида! – думал он с тоскою. – А вернусь домой – дома-то что? Так весь век и ломить на хозяина? Земли – всего один пай, отчим не казак, а иногородним земли не положено. Так что на моем паю шесть ртов… Видать, мне в батраках и загинуть… Чуда не будет! Конечно, – размышлял он, крадучись вдоль бесконечных деревянных фабричных заборов и мрачных зданий красного кирпича, торопясь по осклизлым от росы булыжникам… – Конечно, случись война – можно и крестов навоевать, и, чего доброго, даже в офицеры выйти – бывают такие случаи… Но войны – нет! А стало быть, все эти мечтания – суть химеры!»
– Господи! – перекрестился он на блестевший невдалеке купол Спасо-Троицкого собора Александро-Невской лавры. – Зачем я такой уродился? Всем чужой! Нет мне ни при ком ни места, ни утешения…
Своих собутыльников он застал в казарме и сразу приступил с допросом:
– Где ботинки?
Казак Елисей Анкудинов растерялся и кивнул на тумбочку:
– Вона! Уже и пошутить нельзя!
– Не знаю, как у вас на низу, – зло сказал Осип, заворачивая козловые полусапожки в газету, – а у нас в Собеновской за такие-то шутки так бы старики на майдане отрапортовали, месяц бы колом ходил, не присаживаясь!
– Да что такого! – взъерепенился черномазый Анкудинов.
– Ничего такого! – тряхнув чубом, пояснил Осип. – А только вот через вас, индюков, таковая слава, что «казакам чужое липнет», что, мол, «казак с бою не возьмет, дак потом стащит!».
– Гля, станичники, никак «пенек» в петербургску сучку втрескался! – пытался отшутиться Анкудинов.
– Мели мельница, сбрехать – безделица! – огрызнулся Осип.
– Зеленов! – крикнул ему дневальный. – Ты бы не ходил к фабричным в одиночку. Дождись вечера. Всема пойдем!
– Пошли зараз! – позвал Осип. – Вечером поздно будет. У них нонеча сход какой-то, то ли сходка…
– Во-на! – протянул дневальный казачок из верхнедонских, который сильно симпатизировал Зеленову. – Стало быть, вона через чего мы в готовности…
И тут Осип обратил внимание, что, несмотря на воскресный день, казарма полна казаками. На всех кроватях и нарах сидели атаманцы в портупеях, при шашках, пирамида с винтовками была открыта, и около прогуливался дежурный офицер.
– Так что и мне нельзя идти? – спросил Осип.
– Тебя не касаемо. Ты не нашего полка! А нас вот, того гляди, по тревоге не то усмирять, не то разгонять поведут… Пра слово, не ходи! Плюнь ты на эти штиблеты! В другой раз отдашь… – И, приблизив конопатое лицо к Осипу, дневальный зашептал: – Хотя по мне – дак и не надо отдавать! Пропить – самое правильное дело. Они, энти сучки фабричные, с нас так наживаются, слов нет…
– Пойду! – решительно надевая фуражку, сказал Осип. – Совесть тут оставаться не велит!
– Отлупят! – уверенно посулил дневальный.