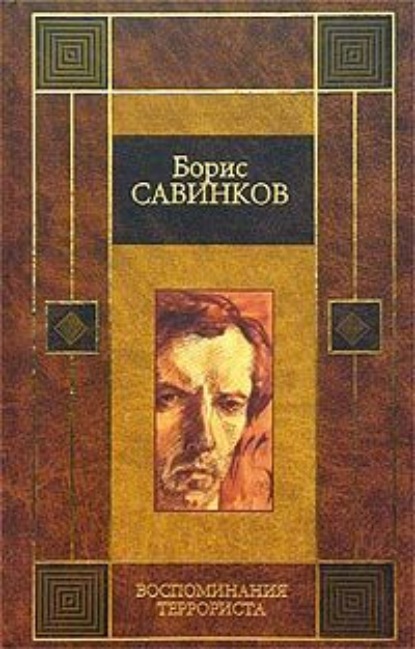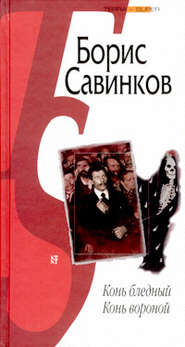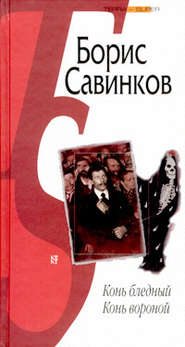По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Андрей Петрович ласково говорит:
– Скажите, Жорж, вы довольны?
– Чем доволен, Андрей Петрович?
– Да вот… усиленьем.
– Чего?
– Боже мой… Я же вам говорю.
Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:
– Усиленьем? Что ж. Дай Бог.
– А вы что думаете об этом?
– Я? Ничего.
– Как – ничего?
Я встаю.
– Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.
– Но почему же, Жорж? Почему?
– Попробуйте сами.
Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.
– Жорж, вы смеетесь?
– Нет, не смеюсь.
Я ухожу. Он, наверное, долго сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.
11 июля.
Ваня и Федор уже здесь. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, 15-го июля, губернатор поедет в театр.
В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайностей.
В восемь часов я раздам снаряды. Ваня станет у одних ворот, Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.
14 июля.
Помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный язык. Я потерял самого себя. Я сам себе был чужой.
И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них – на их упругое и крепкое тело. Что я им и что они мне?… А мимо скучно снует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая, ругаются, скучая, смеются. Женщины жадно ищут глазами.
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец, и смерть – терновый венец.
Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем, сверкнула первая молния.
В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках – большая корзина с бельем.
Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.
Эрна вздыхает.
– Устала?
– Нет, ничего, Жоржик…
– Ну?
– Жоржик, можно мне с вами?
– Эрна, нельзя.
– Жорж, милый…
– Нельзя.
В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:
– Иди к себе. В 12 часов приходи на это же место.
– Жорж…
– Эрна, пора.
Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.
Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около. Жду, когда подадут карету…
Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты… Губернатор уже у третьих ворот…
Я жду.
Идут минуты, идут дни, идут долгие годы.
Я жду.
Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.
Я жду.