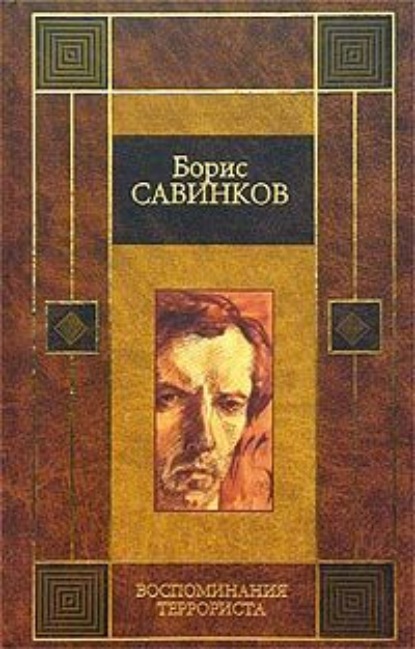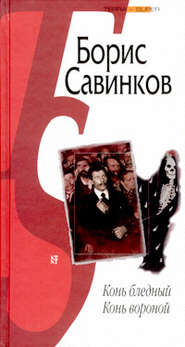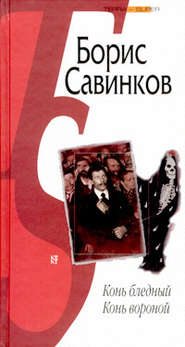По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снова поют куранты.
Я побрел к третьим воротам. Вот Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.
– Генрих.
– Жорж, это вы?
– Генрих, проехал.
– Где?… Кто проехал?
– Губернатор проехал… Мимо вас.
– Мимо меня?
Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
– Мимо меня?
– Где вы были? Да, где вы были?
– Где?… Я был здесь… У ворот…
– И не видели?
– Нет…
Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.
– Жорж.
– Ну?
– Я не могу… уроню… Возьмите… скорее…
Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.
– До завтра.
Он в отчаянии машет рукой.
– До завтра.
Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте.
17 июля.
Генрих, взволнованный, говорит:
– Я сначала стоял у самых ворот… Минут десять стоял… Потом вижу: заметили. Я пошел по улице… Вернулся обратно. Постоял. Губернатора нет… Снова пошел… Вот тут он, наверное, и проехал.
Он закрывает руками лицо:
– Какой позор… Какой стыд…
Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна.
– Жорж, вы ведь верите мне?
– Верю.
Пауза. Я говорю:
– Слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе.
– Я не могу.
– Почему?
– Ах, почему?… Нужно это или нет? Ведь нужно…
– Ну так что ж, что нужно?
– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?… Ведь нельзя же говорить, а самому не делать… Ведь нельзя же… Нельзя?
– Почему нельзя?
– Ах, почему?… Ну я не знаю, может быть, другие и могут… Я не могу…
Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:
– Боже мой, Боже мой…
Молчание.
– Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?
– Я сказал: я вам верю.
– И дадите мне… еще раз?
Я молчу.
Он медленно говорит:
– Нет, вы дадите…
Я молчу.