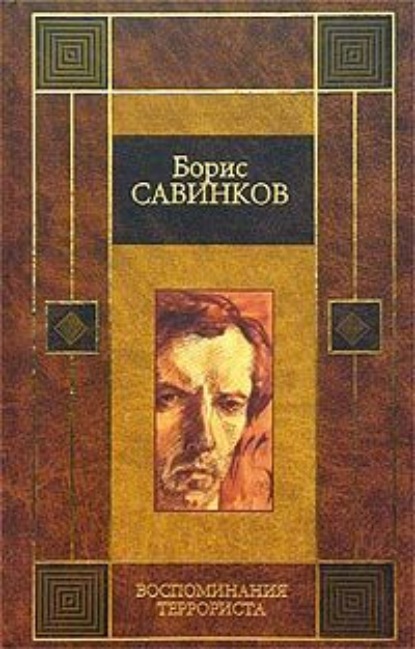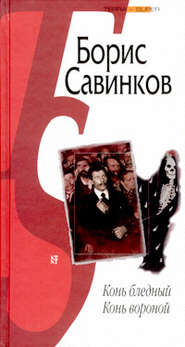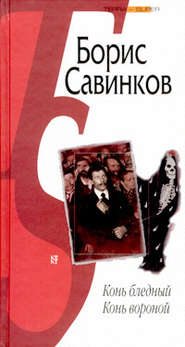По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну тогда… Тогда…
В его голосе страх. Я говорю:
– Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.
И он шепчет:
– Спасибо.
Дома я спрашиваю себя: зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли?
18 июля.
Эрна жалуется. Она говорит:
– Когда же это все кончится, Жорж?… Когда?…
– Что кончится, Эрна?
– Я не могу жить убийством. Я не могу…
Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матчиш.
Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Федор сплевывает на пол и говорит:
– Поспешишь – людей насмешишь… Вишь дьявол Генрих: из-за него теперь остановка.
Ваня подымает глаза:
– Федор, не стыдно тебе? Зачем?… Не виноват Генрих ни в чем. Мы все виноваты.
– Ну уж и все… А по мне, назвался груздем – полезай в кузов…
Пауза. Эрна шепотом говорит:
– Ах Господи… Да не все ли равно, кто прав и кто виноват… Я не могу. Не могу.
Ваня нежно целует ей руку:
– Эрна, милая, вам тяжело… А Генриху? А ему?…
За стеной не умолкает матчиш. Пьяный голос поет куплеты.
– Ах, Ваня, что Генрих?… Я жить не могу…
И Эрна плачет навзрыд.
Федор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?
20 июля.
Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится Эрна.
Вот она заперла двери на ключ, глухо щелкнул замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие синие язычки – змеиные жала – лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет запальную трубку. Тогда будет взрыв.
Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же.
Ну а если ее в самом деле взорвет? Если вместо льняных волос и голубых удивленных глаз будет красное мясо?… Тогда Ваня приготовит. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.
Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил?… Да, почему? Генрих не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?
Все равно. Все – все равно. Пусть моя вина в том, что Генрих с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив. Пусть Эрну взорвет. Пусть повесят Ваню и Федора. Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу.
Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди – черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкой злобой дня. Я презираю их.
21 июля.
Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.
Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков – палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий запах. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.
Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей странной мести. И уже не спрашиваю себя, стоит ли мстить.
22 июля.
Он ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию. Ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Почтовой, в Кривом переулке – Федор; Генрих – в резерве: он станет в дальних улицах. На этот раз нас едва ли ждет неудача.
Что бы я делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.
Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Время жатвы тех, кто не с нами.
25 июля.
Я говорю Федору:
– Ты, Федор, займешь Кривой переулок. Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.
Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит, и его черные усы закручены вверх.
– Ну, Жорж, будет им на орехи.
– Ты думаешь?
– Верно. Теперь не уйдет.
Мы в далеком конце города – в парке.
– Федор…