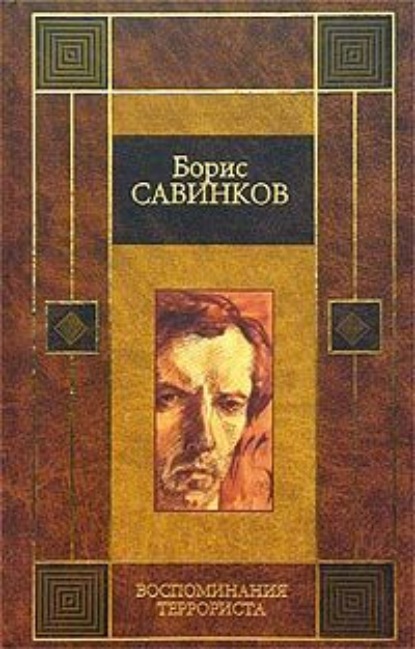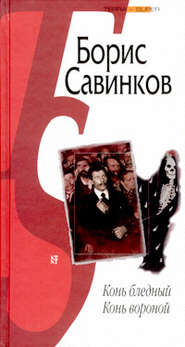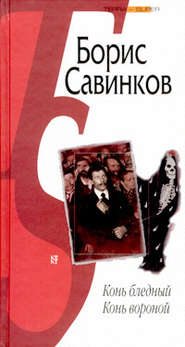По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
13 августа.
Ваня – барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:
– Жалко Федора, Жоржик.
– Да, жалко.
Он улыбается грустно:
– Да ведь тебе не Федора жалко.
– Как не Федора, Ваня?
– Ты ведь думаешь: товарища потерял. Ведь так? Скажи, так?
– Конечно.
– Ты думаешь: вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный… А теперь его нет. И еще думаешь: трудно, как быть без него?
– Конечно.
– Вот видишь… А про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора.
На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках, бродят мастеровые. Говор и смех.
Ваня говорит:
– Слушай, я все о Федоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель… Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами? Стрелял и знал, каждою каплею крови знал: смерть. Сколько времени он в глаза ее видел?
– Ваня, Федор не испугался.
– Жоржик, не то. Я не про то. Ну конечно, не испугался… А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненный, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?
И я отвечаю:
– Нет, Ваня, не думал.
Он шепчет:
– Значит, ты и его не любил…
Тогда я говорю:
– Федор умер… Ты лучше вот что скажи: идти ли нам… туда, в дом?
– Идти ли в дом?
– Да.
– Это как?
– Ну, взорвать весь дом.
– А люди?
– Какие люди?
– Да семья его, дети.
– Вот ты о чем… Пустяки…
Ваня примолк.
– Жорж.
– Что?
– Я не согласен.
– Что – не согласен?
– Идти туда.
– Что за вздор?… Почему?
– Я не согласен… детей.
И потом говорит, волнуясь:
– Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?
Я холодно говорю:
– Я сам позволил себе.
– Ты?
– Да, я.
Он всем телом дрожит.
– Жорж, дети…
– Пусть дети.
– Жорж, а Христос?
– При чем тут Христос?