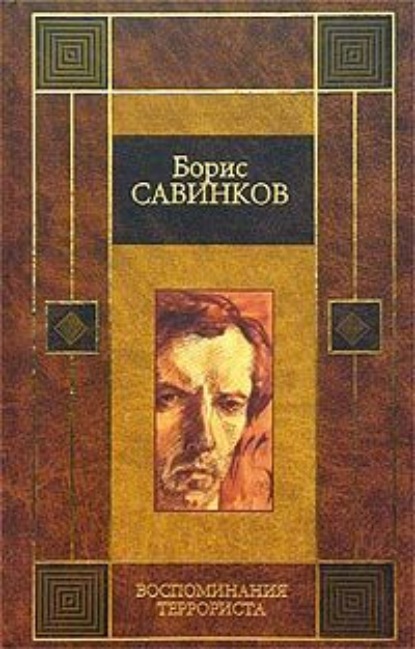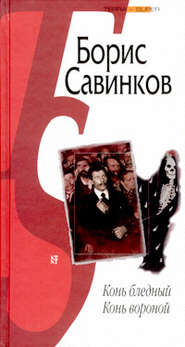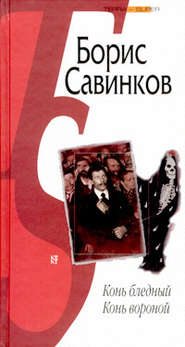По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я повторяю, как эхо:
– Прощай.
Вот она стоит у моих закрытых дверей и ждет. И все еще шепчет с тоскою:
– Жорж, ты ведь приедешь… Жорж?…
28 августа.
Эрна уехала. Кроме меня здесь еще Генрих. Он поедет за Эрной. Я знаю: он любит ее и, конечно, верит в любовь. Мне смешно и досадно.
Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма была сырая и грязная. В коридоре пахло махоркой, солдатскими щами. За окном шагал часовой. Иногда через стену с улицы долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И было странно: там, за окном, море, солнце и жизнь, а здесь одиночество и неизбежная смерть…
Днем я лежал на железной койке, читал прошлогоднюю «Ниву». Вечером тускло мерцали лампы. Я украдкой влезал на стол, цепляясь руками за прутья решетки. Видно было черное небо, южные звезды. Сияла Венера. Я говорил себе: еще много дней впереди, еще встанет утро; будет день, будет ночь. Я увижу солнце, я услышу людей.
Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь, не рождалось сомнения, что там – за темною гранью. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка шею, больно ли задыхаться? И часто вечером после поверки, когда на дворе затихал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все – все равно…
А потом я бежал. Первые дни в сердце было все то же мертвое равнодушие. Машинально я делал так, чтобы меня не поймали. Но зачем я это делал, зачем я бежал – не знаю. Там, в тюрьме, иногда казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца. А на воле меня снова томила скука. Но вот однажды под вечер я остался один. Восток уже потемнел, загорались ранние звезды. Розово-синей дымкой заткались горы. Снизу, с реки, повеяла ночь. Сильно пахнет трава. Громко трещат цикады. Воздух тягучий и сладкий, как сливки.
И вот в эту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен…
И теперь я чувствую то же. Да, я молод, здоров и силен. Я еще раз ушел от смерти. И в сотый раз я спрашиваю себя: в чем моя вина, если б я целовал Эрну? И не большая ли вина, если б я отвернулся и если б я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла с собою любовь и милую ласку. Почему эта ласка рождает горе? Почему любовь дает не радость, а муку? Любовь… Любовь… О любви говорил и Ваня, но о какой? И знаю ли я какую-нибудь любовь? Не знаю, не могу и не пытаюсь узнать. Ваня знает. Но его уже нет.
1 сентября.
Снова приехал Андрей Петрович. Он с трудом разыскал меня и теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет. Он доволен. Морщинки у глаз расползлись у него в улыбку.
– Поздравляю вас, Жорж.
– С чем это, Андрей Петрович?
Он лукаво щурит глаза, качает лысою головою:
– С победой и одолением.
Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова, его докучные поздравления. Но он невинно улыбается мне:
– Да-а, Жорж, правду сказать, мы уж и надежду теряли. Неудачи да неудачи – чувствовали, что у вас неудачи. И знаете. – Он наклоняется к моему уху. – Упразднить даже вас хотели.
– Упразднить?… То есть как?
– Дело прошлое… Я скажу: не верилось нам. Сколько времени, а дел никаких… Ну и стали мы думать: не лучше ли упразднить? Все одно ничего не выйдет… Вот старые дураки… А?
Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же, седой и дряхлый. Пальцы его, как всегда, прокопчены табаком.
– И вы… вы думаете, можно нас упразднить?
– Ну вот, Жорж, вы уже рассердились.
– Я не сержусь… Но скажите, вы думаете, можно нас упразднить?
Он любовно хлопает меня по плечу:
– Эх, вы… Пошутить с вами нельзя…
И потом говорит деловито:
– Ну а теперь что? А?
– Пока ничего.
– Ничего?… Комитет решил…
– То комитет, а то я…
– Ах, Жорж…
Я смеюсь.
– Ну что вы, Андрей Петрович? Я говорю: дайте срок.
Он долго думает про себя, по-стариковски жует губами.
– Жорж, вы остаетесь здесь?
– Да.
– Уезжайте-ка лучше.
– У меня дело есть.
– Дело?
Он опечален: что за такие дела? Но спросить у меня не смеет.
– Ну ладно, Жорж, приедете – потолкуем…
И снова весело жмет руку.
Андрей Петрович судья: он хвалит и он же клеймит. Я молчу: он ведь искренно верит, что я рад похвале. Жалкий старик.
3 сентября.
Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диване, в жарких подушках. Ночь. В раме окна ночное небо. На небе звездное ожерелье: Большая Медведица.
Я знаю: Ваня лежал целый день на тюремной койке, иногда вставал, подходил к столу и писал. А теперь ему так же, как мне, светит Медведица. И так же, как я, он не спит.
Я знаю еще: завтра войдет человек в красной рубахе с веревкою и нагайкой. Он свяжет Ване руки назад, и веревка вопьется в тело. Зазвенят под сводами шпоры, часовые уныло звякнут ружьем. Распахнутся ворота… На песчаной косе курится теплый туман, ноги вязнут в мокром песке. Розовеет восток. На бледно-розовом небе загнутый шпиль. Это – виселица. Это – закон.