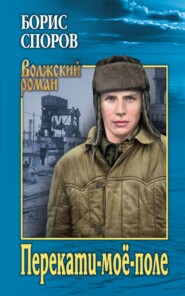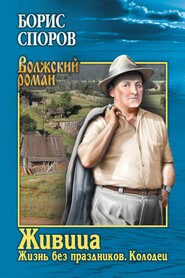По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Живица. Исход
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Одна помеха: хорошие не берут, за плохих – не хочу… То, знаешь, дурак, то забутыльник, а другой и ничего, да гол безнадежно – сам себя не прокормит. – Она усмехнулась. – Впрочем, как здесь говорят: каки сами, таки и сани.
– Да уж не рисуйся.
– А действительно, хочешь, выйду замуж?
– Это, во-первых, дело хозяйское. – Анна насторожилась. – И за кого же?
– Да есть тут один хмырик… тоже: ни рыба ни мясо. Да ты его должна знать. Ты ведь в Пестове работала. Так этот, директорши…
– Виктор? – невольно опередила Анна.
– Ну да, он. Заявился. Артист! Посмотришь – фигура! А что в этой фигуре?
Как потерянная, посреди комнаты стояла Анна, силилась улыбнуться, но лишь губы вздрагивали. Ирина прищурилась и, высвободив ноги из ребер радиатора, села в кровати.
– Какая же я дура, действительно дура, как здесь говорят, набитая… Гришка-то – Викторович, угу?
Анна в ответ кивнула, склонила голову и отвернулась.
– Ну, только давай без слез. Иди, иди сюда, сядь рядом…
– Откуда же он приехал? – поуспокоившись под рукой Ирины, спросила Анна.
– Извини, но черт его знает. У него ведь не поймешь: где кривда, где правда.
– Он в университете учится…
– В университете? Да ему в школе учиться надо!.. Точно. Это он тебе заливал.
Замолчали, чувствуя, что разговор родился недобрый и что обеим он в тягость, но и хорониться теперь было нелепо.
– Когда-то он возомнил себя будущим чемпионом мира, – продолжила Ирина. – Все бросил, решил «в темпе отхватить мастера», чтобы дуриком получать тысячу двести целковых. Теперь же потолкался среди мастеров, понял, что там он – школяр, вот и решил пока быть первым в деревне, чем последним в городе. Видишь, я о нем знаю больше, чем ты. – Они так и сидели рядышком, обнявшись, и Анне было даже уютно. – Оформляется в УОС, на монтажный участок.
– Ну и дела! – от недоумения Анна даже головой качнула.
– А ты как думала? Все они, Анна, одинаковые. Правда, передо мной он почему-то не рисуется, понимает, что не пройдет… Э, давай пьянствовать! – И глаза Ирины заиграли таким озорством, что Анна, вздрогнув, подумала: «Не шутит ли она?»
– Слушай! – Ирина щелкнула пальцами. – Я его на тебе женю! Хочешь? – (Анна молчала, пощипывая ворс одеяла.) – Ну погоди, друг милый, я те кровушку испорчу! – В прищуре глаз ее блеснул жутковатый холод.
– Зачем так, Ирина, Бог с ним, не надо, да и не такой ведь он плохой.
– Ну!.. Эх и дура ты, Анька. На ней пашут – она пляшет… Давай пить!
9
Квартиру должен был получить сам Соловьев, но на постройкоме он настоял, чтобы ордер выписали Струниной. Хихикали в кулаки, отговаривали, однако председатель до конца был тверд. А через неделю на отчетно-выборной конференции Соловьев выдвинул категорический самоотвод. Буквально в несколько дней сдал дела, уволился и уехал, говорили, в Воркуту. На прощание он сказал:
– Ну, Аня, хоть добрым словом вспомните… Правда, грех на душу взял: прихватит вас намертво благоустроенная жилплощадь.
И только тогда она поняла, что Соловьев бежал, тем самым избежав ареста.
* * *
Новый год встречали в двухкомнатной квартире «каменного города».
После семи месяцев больницы, ослабевшая, но бодрая и даже посвежевшая мать, точно морщась, улыбалась, покачивала головой, ходила из комнаты в комнату, в коридор, на кухню и в туалет, заглядывала в темную кладовку – все щупала-трогала, спускала в унитаз воду, открывала на кухне кран и подставляла руку под тугую струю воды.
– А-яй, дочь, благодать-то какая! Вот бы в деревню – по хозяйству гожо дело… – Комнаты были полупустые: ни стола, ни стула, но это ничуть не смущало Лизавету. – Полно те, дочь. Было бы здоровье – все будет! – Она явно храбрилась. – А как меня подлечили – впору хоть молотить!.. Э, милые, думала, что глазоньки закрою, ан нет… Здесь, детки, я погляжу, жить иначе надо – подучилась и я в больнице: слушайся, не хорохорься, делай, что велят, да поменьше советуй, сзади не плетись, а вперед высунут.
– Правильно, мама! Слушайте, мальчишки, учитесь жить. Ждите, когда с рыльца деревенская смазь сойдет, а пока тихонько, бочком – и во князьях будете. А вы как думали! – Анна восторженно смеялась и не замечала того, что не только в словах, но и в манере говорить она невольно повторяет Ирину.
Глава четвертая
1
Чем старше становились братья, тем меньше они походили друг на друга. Внешне Алешка – мать, Саня – отец. В пятнадцать лет Саня был и плечистее, и выше старшего брата. Алешка сутуловат, прыщеват и бледноват, Саня, что твой соколенок, – зорок, румян и свеж. Алешка себе на уме, Саня – говорун, все на люди. В учебе Алешка прилежен, Саня – с первого класса в хвосте. И с деревней расставались братья по-разному: Алешка плакал, переживал утрату, Саня приплясывал, радуясь, что увидит свет белый. Анну Алешка в душе осуждал, Саня вообще не задумывался над положением сестры. Саня полюбил спорт, ничего привлекательного в спорте Алешка не видел. И наконец, Алешка привыкал к новому месту медленно, осторожно, но цепко, Саня же – быстро, легко и безрассудно…
Анна так и работала в постройкоме; мать, поднявшись на ноги, оформилась в ночные сторожа, чтобы днем возиться с внуком; а в сентябре с учеников в токари начал трудиться и Алешка.
Когда Алешка окончил семилетку, было решено учить его дальше. Выбрали с расчетом – строительный техникум. Получив от сестры денег на дорогу и прожиток, он уехал в областной город, но через три дня возвратился ни с чем.
– Не поступил, не сдал, – бычась, известил Алешка, и большего от него не добились, да особо и не добивались.
А получилось так.
В Перелетихе Алешка числился отличником, привык быть в лучших. Но в Заволжской школе скоро понял, что здесь он ни лучший, ни худший – средний. Когда же он потолкался среди поступающих в техникум, то правильно оценил себя и свои знания – ниже среднего. Так что, на удивление секретарши из приемной комиссии, невзрачный паренек еще накануне первого экзамена потребовал документы.
Крепко ему в голову запали слова Анны: «Жди, когда с рыльца деревенская смазь сойдет». Да и часто слово «деревня» произносилось с каким-то идиотским презрением. «Нет, – думал он, – рано еще, надо погодить – успею. И на Аннины деньги учиться не стану, она и так злится, да и тяжело ей… Работать пойду – стахановцем буду. И тогда уж не скажут: «Ты, деревня!» А дома совру: «Не поступил…»
Вскоре Анна переговорила с начальником уосовских мастерских, и Алешку зачислили в штат. Саня с завистью смотрел на брата – рабочий класс! – и от досады швырял учебники в стену.
2
Временные мастерские с небольшим хозяйственным двориком размещались на высоком берегу Волги, правда, ощущение высоты было ложное – глубокая лохань котлован делала берег высоким.
Дни и ночи в этой «лохани» трудились сотни, тысячи строителей. Казалось, что люди ничего не делают – суетятся, да и что может сделать маленький человек в такой прорве. Но проходила неделя – и рисунок на дне «лохани» заметно менялся.
Алешка любил смотреть сверху, от мастерских, – ему нравилось единым взглядом охватывать панораму строительства.
Ночами котлован полуслепо гудел: завывание экскаваторов, надсадный храп груженых МАЗов, металлический скрежет и стук, рокотание вибраторов, сигналы кранов людские голоса – все это сплошным гулом слышалось уж задалеко от котлована. Опоясанный электрическими лампочками и прожекторами, котлован действительно напоминал адскую посудину, в которой клокотало и кипело варево булькало и брызгало огнем-то всплески бензорезов электросварки.
Люди говорили о зумпфе, перечисляли блоки, при разговоре указывали рукой туда, где будет основное здание ГЭС, а где – водосливная плотина и шандоры. Но Алешка пока не мог и не старался уяснить, где что есть, где что будет – ясно, будет.
Иногда вот так на берегу он неожиданно вспоминал Перелетиху и Имзу. И тогда почти одно и то же навязчиво думалось и рисовалось: сверху, от деревни, точно командующий при сражении, в черных бостоновых брюках, в белой рубахе с закатанными рукавами, слегка запыленный, он, Алексей Струнин, смотрит вниз на Имзу: там крупное строительство, возводится Перелетихинская ГЭС, а он – руководит этим строительством… И всякий раз Алешка усмехался над собой и спрашивал: «А что, если бы спросили: ну, Алексей, будем строить Перелетихинскую ГЭС?» Но даже в мыслях жаль было разрушать тот заповедный утолок детства, и он отвечал самому себе: «Нет, не будем строить Перелетихинскую ГЭС».
Иная картина отсюда открывалась днем – днем котлован утрачивал ночную таинственность: весь он лежал как в пригоршне, окольцованный дамбами, колючей проволокой и вышками, а понизу – морозильными галереями. Утром сюда в дружеском окружении овчарок и конвоиров с автоматами, казалось, бесконечным потоком стекала вольная-брезентовая и бушлатная армия заключенных: бригадами, по пяти в ширину, они по часу, по полтора понуро шли, образуя единый строй, единую с вольными трудовую колонну. Казалось, вот сейчас в заполнится котлован, но живая масса вливалась в него и точно засасывалась в щели… А после пяти снова, только в обратном порядке, текли и текли бригады строителей коммунизма… Но заканчивались земляные немеханизированные работы, и бушлатная армия от головы до хвоста становилась короче и короче.
– Смотришь… впечатлительно, – негромко сказал Староверов, токарь-универсал, у которого в учениках был Алешка. Он не слышал, как подошел мастер, – засмотрелся ученик да и задумался. – Смотреть-то смотри, да не попадись сам – на пересылках без мыла бреют.