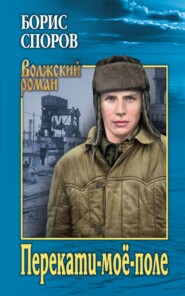По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А в тот день она была в Курбатихе, возвратилась к обеду – никуда ещё и не пошла… И Ванюшка проявил характер: после обеда они пошли во двор ладить дровешки. Но пришлось вколачивать и расклинивать копылки, перевязывать таловый крепеж – словом, с час провозились, пока не наладили «конягу». Постелили старую дерюжку, сверху бросили соломки – и айда на тягучую школьную горку.
И как же они катались!.. Как падали!.. А как они смеялись – до слез, до икоты! – когда из Ванюшкиных штанов выгребали снег! В конце концов они уже еле-еле поднялись в горушку – пришли домой мокрехоньки, но такие радостные – и голодные! Ели горячую пшённую кашу, пили желтое топленое молоко, а когда Нина выскочила и всего-то на несколько минут во двор к тёлке, Ванюшка, розовощекий и горячий, как сидел – так за столом и уснул. Нина перенесла его в боковушку на диван. Раздела, укрыла, сама присела на краешек дивана – и, как в усталость, погрузилась в раздумье. Поначалу это было даже не раздумье – скорее, смутная внутренняя тоска или скорбь: годы прожитые кажутся чрезмерно многочисленными, и жизненная деятельность – пустой и будущая жизнь – бессмысленной; и все это обязательно потому, что жизнь-то как таковая не оценена, не понята, не возвеличена – вся жизнь воспринимается, как комплекс всеобщих и необходимых фактов, скажем: дом, уют, семья, непьющий муж, негулящая жена, дети – только ведь будь всё это, но и тогда мир может показаться с овчинку, потому что неминуемо будет грозить пальцем он, конец земной жизни, – и от этого смятения никуда не денешься. Тут уж одно из двух: или ты наконец поймешь предназначение жизни, поймешь, воспримешь и тогда возвысишься, или будешь пытаться обмануть себя всевозможными подачками или обольщениями – разграфишь свою жизнь на множество мелких промежуточных целей и, достигая их одну за другой, будешь убеждать себя в целесообразности собственной жизни, хотя неминуемо в конце пути поймешь – все это размельченная суета, а на горизонте – грозящий палец.
В такие минуты, как правило, и приходит вопрос: а для чего? Для чего живет человек?
Вот это или примерно это и повергло в раздумье. И будь Нина одна, плакала бы она до тех пор, пока не уснула. Но рядом был Ванюшка, на него спасительно и переключились мысли. В избе натоплено, жарко. Во сне Ванюшка стягивал с себя одеяло и так-то привольно раскидывал ручонки.
Пройдёт время, и ребёнок, как деревце, сантиметр за сантиметром прибавится в росте, раздвинется вширь, нальется крепостью – и всё это будто само собой, от природы. А вот умственный, нравственный, духовный рост – как с этим быть? Всё вроде бы есть, всё заложено в капле крови – и только развитие требует особой пищи, здесь человеку уже не хватает просто физиологических изменений, необходима, как хлеб для тела, нравственная, духовная пища.
…И что это будет за человек? Землепашец, строитель, учитель или физик-ядерник, а может, это растет человек, какие вехами обозначают и знаменуют века?.. Всё может быть, но ясно одно – и важно это одно: он должен вырасти созидателем, разрушителей и без того хватает, да и зачем пребывать в детской святости разрушителю? Или же и детская святость может быть изуродована и скомкана – и всё зависит от того, как он или что он ответит на неминуемый вопрос: для чего живет человек?
И не требовалось уже никаких усилий для того, чтобы увидеть Ванюшку – там, в будущем – взрослым, сильным и добрым. То представлялось, что он летит в космос – но зачем?! – то она видела его строителем сотых и двухсотых этажей – но зачем!? – то он перегораживал бетоном реки или поворачивал их вспять – но зачем?! – то он виделся домоседом-затворником, ушедшим то ли в науку-историю, то ли в науку-философию – но что он там ищет? И если находит, то для чего – для созидания или для разрушения? Она видела, она хотела бы увидеть Ванюшку сеятелем добра и хлеба.
И как колеблется, мерцает звёздочка в бескрайнем ночном небе, так жизнь Ванюшкина мерцала в будущем – так же реально и так же непостижимо.
* * *
И, наверно, именно тогда, в тот вечер, душой своею, сердцем своим Нина поняла, что вся их дальнейшая жизнь – ее и Ванюшки – будет скреплена клятвой нерасторжимости. И тогда же, наверно, в последний раз столь беспощадно для нее прозвучало трубно: «Будешь одна». Но слова эти теперь обретали иной смысл: нет, не одна – с ней Ванюшка… Но чтобы взвалить на свои слабые плечи ответственность за человека, за Ванюшку, она прежде сама должна ответить на вопрос: а для чего?.. Если же не ответит, то имеет ли право на человека будущего? И как же она поведет его в будущее, если сама-то – слепая. Ведь и в Имзе оба утонут с таким поводырём.
И длился тихий вечер, как одухотворенная мысль; и теплые стены дома представлялись живой пеленою, так что за стенами его уже не были видны ни села, ни города, лишь лунная бескрайность, погруженная в ночь. И только здесь, внутри пелены, сосредоточилась жизнь: она и Ванюшка – вот это и есть вселенная…
Затем Нина естественно, без нажима, переключилась на себя – в одно мгновение вспомнила всю свою жизнь – и поразила пропасть: впервые так отчетливо она поняла, что всю свою в общем-то недолгую жизнь она была предоставлена сама себе – одна. Вокруг родные и близкие – и все-таки одна. Даже мать так и стояла в сторонке… Нет, не было ни на кого обиды – да и за что обижаться! – когда отец погиб, а у матери пятеро осталось. Сыта, одета, обута – что ещё-то? Всё так, и иначе не могло быть, и все-таки над пропастью – поняла вдруг свое духовное сиротство, и ничем этого сиротства нельзя подменить: ни сестрой, ни братом, ни школьным учителем, ни техникумовским преподавателем, ни даже Раковым – он и сам слепой, сирота. Это и есть – над пропастью.
А ведь у каждого человека, хотя бы в молодости, должен быть наставник, который мог бы сказать: иди туда, делай то, продолжай начатое другими – и при надобности объяснил бы, почему туда, почему то, зачем…
А если нет?
Вот и идут люди каждый по себе – на ощупь, по краю пропасти со слепыми поводырями.
6
– Здравствуй, Нина, – сказал Борис, ещё не прикрыв за собой дверь, но уже перешагнув через порог, сказал, точно милости попросил.
Нина медленно повернулась от стола, болезненно-скорбная улыбка тронула ее губы, и лицо как будто вытянулось в сострадании.
– Борис, Борис, это что же с тобой творится?.. А я всё утро о тебе думаю, и душа болит.
И такое бескорыстие, такая доброта были в ее голосе, что как будто лучами солнца охватило и обласкало Бориса – и он рассеянно или расслабленно подумал: «Не она ли и дом-то согревала…»
– Вот и я о тебе с утра думаю. – Он неопределенно хмыкнул. – Выпил малость с утра и затосковал по родине. Вот, думаю, и случай: рыбешки на ушицу принес. – Борис передал из рук в руки котелок с бедным уловом и начал стягивать с себя непослушный мокрый плащ.
От Нины не ускользнула и эта мгновенная перестройка Бориса, и она, стремясь разрушить и остатки его напряженности, искренне восхитилась уловом и тотчас предложила сварить ушицу.
– А ты покуда умойся да покури, я сейчас – вот и похлебаешь ушицы… – И уже в следующий момент под ножом запотрескивала стойкая чешуя окуньков.
Борис повесил плащ, стянул со скрипом мокрые сапоги, достал с печи теплые большие валенки, надвинул их на ноги – и грустно усмехнулся памяти: лишь на мгновение он перенесся в далекое-далекое время, когда ещё не было ни Ванюшки, ни Петьки с Федькой. Он пришел с тяжелой, каких теперь нет, посевной, и такая-то безысходная усталость, а дома – уютно, мирно, и неутомимая Веруха сейчас выглянет от печи, улыбнется, и поможет умыться теплой водой, и достанет с печи большие теплые валенки для облегчения ногам – лишь на миг возвратился он в двадцатилетнее прошлое и усмехнулся, сострадая своим годам, так жестоко перекореженным и мгновенно угасшим…
Он стоял возле умывальника уже в движении, вот-вот готовый поднять ладони к воде, и озирался вокруг удивленно, как гость или прозревший. Стены вот родные, с особым, хлебным, что ли, запахом, но какие же низкие потолки, крохотные окна, и подоконники прогнили, позамазала их глиной хозяйка. Да и все здесь пришло в упадок, и не столько время подточило дерево, сколько отсутствие мужских рук… Родной дом – теплый и благостный, но что-то иначе в нем – так на памяти не было никогда. Теперь здесь во всем порядок и чистота – мелочный порядок, мелочная чистота – печать женского одиночества. И верно, не было такого, чтобы в этом доме жил бобылём один человек. Разве же удержались бы занавесочки над печурками, если бы на печи спали хотя бы Петька с Федькой? Куда там! Или вот занавесочки на посудных полках. Да сама хозяйка сняла бы их, если бы печь работала на семью да ещё на скотину во дворе. Но нет в доме семьи, во дворе скотины – нет, хотя и привела колхозную телку… Озираясь, Борис ещё раз оглянулся и только теперь заметил: в переднем углу под иконой горела лампадка. Она, казалось, еле тлела, но света от нее исходило удивительно много, видимо, от оклада отражался свет… Иконы-то в доме сохранялись всегда, а вот чтобы горела лампадка – такого в памяти не осталось.
Пока Нина чистила рыбу, вода закипела. Нина смотрела на живую узловатую воду, на окуньков и плотвичек, ныряющих в кипящей воде, и смутная тревога охватывала её: неужели – и тогда не для кого уж будет вот так варить ушицу или парить редьку с медом… Нина знала, что в Курбатихе ежедневно решается вопрос – уезжать или не уезжать, знала она и то, что повлиять на решение никак не сможет. Но вот Ванюшка, неужели – увезут…
Уха – не говядина: ложку пшена, картошину, лучку да зелени – и уха готова… Ныряли белоглазые рыбешки, а Нина плакала – тихо, беззвучно – так умеют плакать одинокие женщины, и даже Борис не замечал её слёз… Уху-то сварили, только есть, оказалось, некому: Нина с утра уже поела, а Борису – ложкой рот раздирало.
А тут нежданно припинала Кирганиха. Она и в старости так и не располнела, только в лице добавилась нездоровая одутловатость. И ноги с трудом приволакивала, да зрение быстро угасало.
– А я чаю, Нина, никак Лексей Петрович… прибыл. – Кирганиха перетащилась через порог, как если бы гору одолела, и улыбнулась. – Доброго вам здоровьица.
– Спасибо, Катерина. А это, видишь, я, так что ошиблась. – Борис усмехнулся добродушно и печально. – Чего, или по Алексею сохнешь?.. А ты садись, в ногах-то правды нету.
– В моих-то ногах, и верно, нету. – Она села, нескладно выставив отёчные ноги перед собой. – Чаяла, Лексей Петрович. Сохну, знамо дело, сохну: он же пенсию обещал охлопотать. Мой ведь пенсион – одиннадцать с полтиной, а за поросятами ходить – обезножила. По годам-то ещё можно бы, да обезножила.
– Укатали Сивку крутые горки, – не столько уже разумея Кирганиху, сколько, наверное, себя, сказал Борис.
– Укатали, – охотно согласилась Катерина. – Тут уж ничего не попишешь. Нахлебались горького да через край.
– А теперь вот похлебай, тетя Катя, ушицы, – поставив на стол тарелку и пододвинув ложку и хлеб, предложила Нина, зная, что Кирганиха никогда не отказывается от любого угощения. Нет, не потому, что, мол, голодна?, а за компанию, чтобы и покалякать, душу отвести.
– А я эт-та гляжу – идёт, подумала, что Лексей прибыл. Авось, думаю, охлопотал. Дело-то ведь какое – в Москву писать надо. Почитай, без одного сорок годков в колхозе батрачила, а теперь одиннадцать с полтиной пенсион – на таблетки не хватает…
Она говорила и говорила, ровно, без возмущения, без нажима, лишь иногда подкрепляя свою речь крепким словцом; она даже не жаловалась, не искала соучастия – ей всего лишь было необходимо высказаться да чтобы выслушали. А уж если высказалась да выслушали, то и на душе легче и досада поулеглась. Она и Алексея ждала, чтобы лишь высказаться, прекрасно понимая, что все его обещания «узнать, похлопотать» – одна пустельга. Своим рациональным крестьянским умом Кирганиха давно и твёрдо поняла, что никто в мире ни ей, ни миллионам других горемык не прибавит к пенсиям ни рубля, ни полтинника, а если уж и прибавят трёшницу-пятерку, так всем сразу, под гребёнку, – и об этом будут долго и громко вещать, как о манне небесной… Все понимала колхозная батрачка, но обида и досада так источали сердце, что при всяком подходящем случае она неустанно повторяла: «Сорок годков батрачила, а и весь пенсион – одиннадцать с полтиной, на таблетки недостаёт».
Как и объявилась внезапно, так же внезапно Кирганиха и ушла, ни слова не сказав лишнего, с трудам подволакивая за собой больные ноги – рослая, прямая, отечная.
А Борис и Нина молча так и сидели за столом, на в какое-то время разрушив ход собственных мыслей, погрузившись в общую нужду и скорбь. И невольно думали они о прошлом, о гнетущем прошлом, – и о горемычных и незабвенных родителях своих.
– Вот она, жизнь, – вздохнув наконец, тихо сказал Борис.
– А что жизнь? Жизнь как жизнь, она ведь всегда была сложной и будет такой.
– А то и жизнь… Вот так и потянешь под сирень «перебитые гусеницы». И дети у неё, и внуки, а так в Перелетихе одна и сидит, как воробей под застрехой. Что ли, нельзя уехать, жить у детей, чай, не выгонят… – Борис и теперь, говоря о Кирганихе, говорил о себе, потому что думы его вились только вокруг своих забот – и это Нина без труда понимала.
– У вас вот и дети есть, и внуки будут, и зарабатываете нынче не по одиннадцати с полтиной, а собираетесь, и не к кому-то, а так – лишь бы уехать… А Кирганихе и ехать есть к кому – не едет. Значит, не просто так, причина есть.
– Понятно – причина! У всех причины. Ей хочется умереть здесь, а нам с Верухой хочется, чтобы дети наши не гробились. Пусть хоть они поживут… А потом, Нина, как ведь оно может: уйдут мои мужики в армию – и привет. И кукуй старость вот так же, как Кирганиха… И об этом думка из головы не идет.
– Нет, Борис, – Нина печально усмехнулась, – тебе, как Чачин сказал бы, шлея под хвост попала, стало быть, своё на детей не сваливай. Живи так, делай так, чтобы дети остались рядом, – ты отец, ты глава семьи.
– У меня теперь Веруха – глава, как почла больше меня денег приносить – враз и голова, – с досадой огрызнулся Борис. И вдруг, именно – вдруг, он почувствовал, как внутри себя сам и заскулил – тихо, тоскливо, с повизгиванием, как скулит щенок, когда отлучится «мать»: ему захотелось пожаловаться, жалости к себе захотелось. – Эх, Нинуха… – Он прикрыл козырьком ладони глаза и запокачивал головой из стороны в сторону, и казалось, вот сейчас и прольются мужские недостойные слезы. – Ты не знаешь, у нас в Курбатихе и дом холодный, как гумно, большой и холодный… А я ведь до войны уже остался сиротой, и дом родительский толком не помню, на слом тетка и продала… У тебя здесь и стены-то хлебом пахнут, а у нас конюшня, стойло, не лежит душа, хоть ты тресни. Нy как так жить!.. Э, да что там. – Он безнадежно взмахнул рукой и полез в карман за куревом, весь как-то по-стариковски ссутулившись.
– Да-а, – только и проронила Нина. Поднялась, чтобы убрать со стола, а вернее, чтобы не вдруг и отвечать, а подумав. Погремела посудой у печи, вытерла насухо стол и наконец сказала: – А ты дом-то свой новый любовью и согрей, полюби – и согрей, да так, чтобы и детям твоим тепло было – тогда они никуда и не денутся, рядом будут, а кому уж судьба в люди уйти – уйдёт, хоть из какого тепла…
Вот это ею было давно обдумано, выношено, это она чувствовала сердцем и верила в это. Только любовь, пусть тихая и неброская, способна помочь человеку – остановить его, смирить, удержать, задуматься о том, что ведь даже такую любовь, тихую и неброскую, возможно, нигде уже и не найдёшь. Не потому ли и человека в конце пути его тянет не в заморские края, а на родину – увидеть то, что с младенчества грело сердце, первую на всю жизнь любовь. А если не любить, сорвавшись, можно катиться и катиться, и если даже где-то и зацепишься, то всего лишь смиришься, но не прорастёшь корнями, не полюбишь, и может случиться – возненавидишь себя и весь мир… Нет, не просто улетают и прилетают птицы… Иное дело – любить разучились: своих не всегда любим, а уж что до соседей, до деревни, до земли и лесных угодий – и говорить нечего.
– А ты не задумывался, Борис, почему это людей так в дорогу потянуло, как мальчишек в путешествие? – неожиданно спросила Нина.
– А что тут задумываться: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
– Глубже, лучше – самообман, морока. Да посуди: здесь свой дом, там – квартира, а если свой дом, то трижды хуже; здесь свой – огород, там – рынок, в лучшем случае магазин; здесь телевизор, там – тоже; здесь работа, там – работа, и рубли одинаковой длины. Так чем же лучше-то? Да ничем…
И как же они катались!.. Как падали!.. А как они смеялись – до слез, до икоты! – когда из Ванюшкиных штанов выгребали снег! В конце концов они уже еле-еле поднялись в горушку – пришли домой мокрехоньки, но такие радостные – и голодные! Ели горячую пшённую кашу, пили желтое топленое молоко, а когда Нина выскочила и всего-то на несколько минут во двор к тёлке, Ванюшка, розовощекий и горячий, как сидел – так за столом и уснул. Нина перенесла его в боковушку на диван. Раздела, укрыла, сама присела на краешек дивана – и, как в усталость, погрузилась в раздумье. Поначалу это было даже не раздумье – скорее, смутная внутренняя тоска или скорбь: годы прожитые кажутся чрезмерно многочисленными, и жизненная деятельность – пустой и будущая жизнь – бессмысленной; и все это обязательно потому, что жизнь-то как таковая не оценена, не понята, не возвеличена – вся жизнь воспринимается, как комплекс всеобщих и необходимых фактов, скажем: дом, уют, семья, непьющий муж, негулящая жена, дети – только ведь будь всё это, но и тогда мир может показаться с овчинку, потому что неминуемо будет грозить пальцем он, конец земной жизни, – и от этого смятения никуда не денешься. Тут уж одно из двух: или ты наконец поймешь предназначение жизни, поймешь, воспримешь и тогда возвысишься, или будешь пытаться обмануть себя всевозможными подачками или обольщениями – разграфишь свою жизнь на множество мелких промежуточных целей и, достигая их одну за другой, будешь убеждать себя в целесообразности собственной жизни, хотя неминуемо в конце пути поймешь – все это размельченная суета, а на горизонте – грозящий палец.
В такие минуты, как правило, и приходит вопрос: а для чего? Для чего живет человек?
Вот это или примерно это и повергло в раздумье. И будь Нина одна, плакала бы она до тех пор, пока не уснула. Но рядом был Ванюшка, на него спасительно и переключились мысли. В избе натоплено, жарко. Во сне Ванюшка стягивал с себя одеяло и так-то привольно раскидывал ручонки.
Пройдёт время, и ребёнок, как деревце, сантиметр за сантиметром прибавится в росте, раздвинется вширь, нальется крепостью – и всё это будто само собой, от природы. А вот умственный, нравственный, духовный рост – как с этим быть? Всё вроде бы есть, всё заложено в капле крови – и только развитие требует особой пищи, здесь человеку уже не хватает просто физиологических изменений, необходима, как хлеб для тела, нравственная, духовная пища.
…И что это будет за человек? Землепашец, строитель, учитель или физик-ядерник, а может, это растет человек, какие вехами обозначают и знаменуют века?.. Всё может быть, но ясно одно – и важно это одно: он должен вырасти созидателем, разрушителей и без того хватает, да и зачем пребывать в детской святости разрушителю? Или же и детская святость может быть изуродована и скомкана – и всё зависит от того, как он или что он ответит на неминуемый вопрос: для чего живет человек?
И не требовалось уже никаких усилий для того, чтобы увидеть Ванюшку – там, в будущем – взрослым, сильным и добрым. То представлялось, что он летит в космос – но зачем?! – то она видела его строителем сотых и двухсотых этажей – но зачем!? – то он перегораживал бетоном реки или поворачивал их вспять – но зачем?! – то он виделся домоседом-затворником, ушедшим то ли в науку-историю, то ли в науку-философию – но что он там ищет? И если находит, то для чего – для созидания или для разрушения? Она видела, она хотела бы увидеть Ванюшку сеятелем добра и хлеба.
И как колеблется, мерцает звёздочка в бескрайнем ночном небе, так жизнь Ванюшкина мерцала в будущем – так же реально и так же непостижимо.
* * *
И, наверно, именно тогда, в тот вечер, душой своею, сердцем своим Нина поняла, что вся их дальнейшая жизнь – ее и Ванюшки – будет скреплена клятвой нерасторжимости. И тогда же, наверно, в последний раз столь беспощадно для нее прозвучало трубно: «Будешь одна». Но слова эти теперь обретали иной смысл: нет, не одна – с ней Ванюшка… Но чтобы взвалить на свои слабые плечи ответственность за человека, за Ванюшку, она прежде сама должна ответить на вопрос: а для чего?.. Если же не ответит, то имеет ли право на человека будущего? И как же она поведет его в будущее, если сама-то – слепая. Ведь и в Имзе оба утонут с таким поводырём.
И длился тихий вечер, как одухотворенная мысль; и теплые стены дома представлялись живой пеленою, так что за стенами его уже не были видны ни села, ни города, лишь лунная бескрайность, погруженная в ночь. И только здесь, внутри пелены, сосредоточилась жизнь: она и Ванюшка – вот это и есть вселенная…
Затем Нина естественно, без нажима, переключилась на себя – в одно мгновение вспомнила всю свою жизнь – и поразила пропасть: впервые так отчетливо она поняла, что всю свою в общем-то недолгую жизнь она была предоставлена сама себе – одна. Вокруг родные и близкие – и все-таки одна. Даже мать так и стояла в сторонке… Нет, не было ни на кого обиды – да и за что обижаться! – когда отец погиб, а у матери пятеро осталось. Сыта, одета, обута – что ещё-то? Всё так, и иначе не могло быть, и все-таки над пропастью – поняла вдруг свое духовное сиротство, и ничем этого сиротства нельзя подменить: ни сестрой, ни братом, ни школьным учителем, ни техникумовским преподавателем, ни даже Раковым – он и сам слепой, сирота. Это и есть – над пропастью.
А ведь у каждого человека, хотя бы в молодости, должен быть наставник, который мог бы сказать: иди туда, делай то, продолжай начатое другими – и при надобности объяснил бы, почему туда, почему то, зачем…
А если нет?
Вот и идут люди каждый по себе – на ощупь, по краю пропасти со слепыми поводырями.
6
– Здравствуй, Нина, – сказал Борис, ещё не прикрыв за собой дверь, но уже перешагнув через порог, сказал, точно милости попросил.
Нина медленно повернулась от стола, болезненно-скорбная улыбка тронула ее губы, и лицо как будто вытянулось в сострадании.
– Борис, Борис, это что же с тобой творится?.. А я всё утро о тебе думаю, и душа болит.
И такое бескорыстие, такая доброта были в ее голосе, что как будто лучами солнца охватило и обласкало Бориса – и он рассеянно или расслабленно подумал: «Не она ли и дом-то согревала…»
– Вот и я о тебе с утра думаю. – Он неопределенно хмыкнул. – Выпил малость с утра и затосковал по родине. Вот, думаю, и случай: рыбешки на ушицу принес. – Борис передал из рук в руки котелок с бедным уловом и начал стягивать с себя непослушный мокрый плащ.
От Нины не ускользнула и эта мгновенная перестройка Бориса, и она, стремясь разрушить и остатки его напряженности, искренне восхитилась уловом и тотчас предложила сварить ушицу.
– А ты покуда умойся да покури, я сейчас – вот и похлебаешь ушицы… – И уже в следующий момент под ножом запотрескивала стойкая чешуя окуньков.
Борис повесил плащ, стянул со скрипом мокрые сапоги, достал с печи теплые большие валенки, надвинул их на ноги – и грустно усмехнулся памяти: лишь на мгновение он перенесся в далекое-далекое время, когда ещё не было ни Ванюшки, ни Петьки с Федькой. Он пришел с тяжелой, каких теперь нет, посевной, и такая-то безысходная усталость, а дома – уютно, мирно, и неутомимая Веруха сейчас выглянет от печи, улыбнется, и поможет умыться теплой водой, и достанет с печи большие теплые валенки для облегчения ногам – лишь на миг возвратился он в двадцатилетнее прошлое и усмехнулся, сострадая своим годам, так жестоко перекореженным и мгновенно угасшим…
Он стоял возле умывальника уже в движении, вот-вот готовый поднять ладони к воде, и озирался вокруг удивленно, как гость или прозревший. Стены вот родные, с особым, хлебным, что ли, запахом, но какие же низкие потолки, крохотные окна, и подоконники прогнили, позамазала их глиной хозяйка. Да и все здесь пришло в упадок, и не столько время подточило дерево, сколько отсутствие мужских рук… Родной дом – теплый и благостный, но что-то иначе в нем – так на памяти не было никогда. Теперь здесь во всем порядок и чистота – мелочный порядок, мелочная чистота – печать женского одиночества. И верно, не было такого, чтобы в этом доме жил бобылём один человек. Разве же удержались бы занавесочки над печурками, если бы на печи спали хотя бы Петька с Федькой? Куда там! Или вот занавесочки на посудных полках. Да сама хозяйка сняла бы их, если бы печь работала на семью да ещё на скотину во дворе. Но нет в доме семьи, во дворе скотины – нет, хотя и привела колхозную телку… Озираясь, Борис ещё раз оглянулся и только теперь заметил: в переднем углу под иконой горела лампадка. Она, казалось, еле тлела, но света от нее исходило удивительно много, видимо, от оклада отражался свет… Иконы-то в доме сохранялись всегда, а вот чтобы горела лампадка – такого в памяти не осталось.
Пока Нина чистила рыбу, вода закипела. Нина смотрела на живую узловатую воду, на окуньков и плотвичек, ныряющих в кипящей воде, и смутная тревога охватывала её: неужели – и тогда не для кого уж будет вот так варить ушицу или парить редьку с медом… Нина знала, что в Курбатихе ежедневно решается вопрос – уезжать или не уезжать, знала она и то, что повлиять на решение никак не сможет. Но вот Ванюшка, неужели – увезут…
Уха – не говядина: ложку пшена, картошину, лучку да зелени – и уха готова… Ныряли белоглазые рыбешки, а Нина плакала – тихо, беззвучно – так умеют плакать одинокие женщины, и даже Борис не замечал её слёз… Уху-то сварили, только есть, оказалось, некому: Нина с утра уже поела, а Борису – ложкой рот раздирало.
А тут нежданно припинала Кирганиха. Она и в старости так и не располнела, только в лице добавилась нездоровая одутловатость. И ноги с трудом приволакивала, да зрение быстро угасало.
– А я чаю, Нина, никак Лексей Петрович… прибыл. – Кирганиха перетащилась через порог, как если бы гору одолела, и улыбнулась. – Доброго вам здоровьица.
– Спасибо, Катерина. А это, видишь, я, так что ошиблась. – Борис усмехнулся добродушно и печально. – Чего, или по Алексею сохнешь?.. А ты садись, в ногах-то правды нету.
– В моих-то ногах, и верно, нету. – Она села, нескладно выставив отёчные ноги перед собой. – Чаяла, Лексей Петрович. Сохну, знамо дело, сохну: он же пенсию обещал охлопотать. Мой ведь пенсион – одиннадцать с полтиной, а за поросятами ходить – обезножила. По годам-то ещё можно бы, да обезножила.
– Укатали Сивку крутые горки, – не столько уже разумея Кирганиху, сколько, наверное, себя, сказал Борис.
– Укатали, – охотно согласилась Катерина. – Тут уж ничего не попишешь. Нахлебались горького да через край.
– А теперь вот похлебай, тетя Катя, ушицы, – поставив на стол тарелку и пододвинув ложку и хлеб, предложила Нина, зная, что Кирганиха никогда не отказывается от любого угощения. Нет, не потому, что, мол, голодна?, а за компанию, чтобы и покалякать, душу отвести.
– А я эт-та гляжу – идёт, подумала, что Лексей прибыл. Авось, думаю, охлопотал. Дело-то ведь какое – в Москву писать надо. Почитай, без одного сорок годков в колхозе батрачила, а теперь одиннадцать с полтиной пенсион – на таблетки не хватает…
Она говорила и говорила, ровно, без возмущения, без нажима, лишь иногда подкрепляя свою речь крепким словцом; она даже не жаловалась, не искала соучастия – ей всего лишь было необходимо высказаться да чтобы выслушали. А уж если высказалась да выслушали, то и на душе легче и досада поулеглась. Она и Алексея ждала, чтобы лишь высказаться, прекрасно понимая, что все его обещания «узнать, похлопотать» – одна пустельга. Своим рациональным крестьянским умом Кирганиха давно и твёрдо поняла, что никто в мире ни ей, ни миллионам других горемык не прибавит к пенсиям ни рубля, ни полтинника, а если уж и прибавят трёшницу-пятерку, так всем сразу, под гребёнку, – и об этом будут долго и громко вещать, как о манне небесной… Все понимала колхозная батрачка, но обида и досада так источали сердце, что при всяком подходящем случае она неустанно повторяла: «Сорок годков батрачила, а и весь пенсион – одиннадцать с полтиной, на таблетки недостаёт».
Как и объявилась внезапно, так же внезапно Кирганиха и ушла, ни слова не сказав лишнего, с трудам подволакивая за собой больные ноги – рослая, прямая, отечная.
А Борис и Нина молча так и сидели за столом, на в какое-то время разрушив ход собственных мыслей, погрузившись в общую нужду и скорбь. И невольно думали они о прошлом, о гнетущем прошлом, – и о горемычных и незабвенных родителях своих.
– Вот она, жизнь, – вздохнув наконец, тихо сказал Борис.
– А что жизнь? Жизнь как жизнь, она ведь всегда была сложной и будет такой.
– А то и жизнь… Вот так и потянешь под сирень «перебитые гусеницы». И дети у неё, и внуки, а так в Перелетихе одна и сидит, как воробей под застрехой. Что ли, нельзя уехать, жить у детей, чай, не выгонят… – Борис и теперь, говоря о Кирганихе, говорил о себе, потому что думы его вились только вокруг своих забот – и это Нина без труда понимала.
– У вас вот и дети есть, и внуки будут, и зарабатываете нынче не по одиннадцати с полтиной, а собираетесь, и не к кому-то, а так – лишь бы уехать… А Кирганихе и ехать есть к кому – не едет. Значит, не просто так, причина есть.
– Понятно – причина! У всех причины. Ей хочется умереть здесь, а нам с Верухой хочется, чтобы дети наши не гробились. Пусть хоть они поживут… А потом, Нина, как ведь оно может: уйдут мои мужики в армию – и привет. И кукуй старость вот так же, как Кирганиха… И об этом думка из головы не идет.
– Нет, Борис, – Нина печально усмехнулась, – тебе, как Чачин сказал бы, шлея под хвост попала, стало быть, своё на детей не сваливай. Живи так, делай так, чтобы дети остались рядом, – ты отец, ты глава семьи.
– У меня теперь Веруха – глава, как почла больше меня денег приносить – враз и голова, – с досадой огрызнулся Борис. И вдруг, именно – вдруг, он почувствовал, как внутри себя сам и заскулил – тихо, тоскливо, с повизгиванием, как скулит щенок, когда отлучится «мать»: ему захотелось пожаловаться, жалости к себе захотелось. – Эх, Нинуха… – Он прикрыл козырьком ладони глаза и запокачивал головой из стороны в сторону, и казалось, вот сейчас и прольются мужские недостойные слезы. – Ты не знаешь, у нас в Курбатихе и дом холодный, как гумно, большой и холодный… А я ведь до войны уже остался сиротой, и дом родительский толком не помню, на слом тетка и продала… У тебя здесь и стены-то хлебом пахнут, а у нас конюшня, стойло, не лежит душа, хоть ты тресни. Нy как так жить!.. Э, да что там. – Он безнадежно взмахнул рукой и полез в карман за куревом, весь как-то по-стариковски ссутулившись.
– Да-а, – только и проронила Нина. Поднялась, чтобы убрать со стола, а вернее, чтобы не вдруг и отвечать, а подумав. Погремела посудой у печи, вытерла насухо стол и наконец сказала: – А ты дом-то свой новый любовью и согрей, полюби – и согрей, да так, чтобы и детям твоим тепло было – тогда они никуда и не денутся, рядом будут, а кому уж судьба в люди уйти – уйдёт, хоть из какого тепла…
Вот это ею было давно обдумано, выношено, это она чувствовала сердцем и верила в это. Только любовь, пусть тихая и неброская, способна помочь человеку – остановить его, смирить, удержать, задуматься о том, что ведь даже такую любовь, тихую и неброскую, возможно, нигде уже и не найдёшь. Не потому ли и человека в конце пути его тянет не в заморские края, а на родину – увидеть то, что с младенчества грело сердце, первую на всю жизнь любовь. А если не любить, сорвавшись, можно катиться и катиться, и если даже где-то и зацепишься, то всего лишь смиришься, но не прорастёшь корнями, не полюбишь, и может случиться – возненавидишь себя и весь мир… Нет, не просто улетают и прилетают птицы… Иное дело – любить разучились: своих не всегда любим, а уж что до соседей, до деревни, до земли и лесных угодий – и говорить нечего.
– А ты не задумывался, Борис, почему это людей так в дорогу потянуло, как мальчишек в путешествие? – неожиданно спросила Нина.
– А что тут задумываться: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
– Глубже, лучше – самообман, морока. Да посуди: здесь свой дом, там – квартира, а если свой дом, то трижды хуже; здесь свой – огород, там – рынок, в лучшем случае магазин; здесь телевизор, там – тоже; здесь работа, там – работа, и рубли одинаковой длины. Так чем же лучше-то? Да ничем…