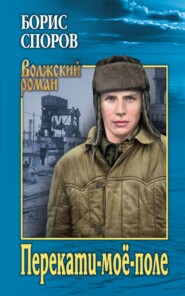По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
Борис Федорович Споров
Волжский роман
Роман-трилогия «Живица» состоит из книг «Исход», «Жизнь без праздников», «Колодец» и имеет подзаголовок «Хроника одной семьи». Струнины – родные погибшего фронтовика из деревни Перелетиха Горьковской области. С первой до последней страницы мир вращается вокруг этой семьи.
В данном издании публикуется завершающая часть трилогии.
Книга «Жизнь без праздников» описывает период «революции» Хрущева. Полным ходом идет усиление колхозов, строительство крупных агрокомплексов и, как следствие, запустение неперспективных деревень. В городе на строительстве наступает смена поколений. Судьбы родителей и детей претерпевают тяжелую ломку. И только младшая из Струниных, Нина, все ещё крепится, оставаясь с племянником Ваней в порушенной, заброшенной Перелетихе.
Книга «Колодец» рассказывает о возвращении Струниных к родовым истокам, в родную деревню, где и жить негде, и даже вечные поильцы – ключи – иссякли. Начинается возрождение хозяйства и возврат к вере. Всё как будто становится на круги своя, расставляя Струниных по определившимся местам. Но главное: все живы – перемогли. Жизнь продолжается.
Борис Споров
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
© Споров Б.Ф., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Жизнь без праздников
Часть первая
Глава первая
1
Май 1971 года выдался теплым и на редкость дождливым. Дожди, казалось, не прекращались с минувшей осени: шли и в ноябре, и в декабре, а в канун Нового года разрядилась ещё и молния. Самая что ни на есть зима, вокруг же черные поля под черепицей наледи, и в небе поблескивает да погромыхивает. Выпадали дожди и после Нового года – по снегу, а уж с Евдокии сеяло с перерывами числа до двадцатого апреля. Затем недели две стояла душная жара, успели даже отсеяться, но уже в начале мая небо вновь надежно заволокло – и не было дня без примочки.
А Борису и вовсе порой мнилось, что дожди не прекращаются уже бесконечно долгие годы – с тех самых пор, как похоронили тещу, мать, Елизавету Алексеевну, и затеяли новостройку в Курбатихе. Срок немалый – миновало шесть лет, этот – седьмой. Эх и затянулось же ненастье! И впереди – без просвета.
День был воскресный… Однако проснулся Борис рано. Собственно, не проснулся – он и всю-то ночь только то и делал, что ворочался с боку на бок – рано поднялся. И лишь откинул одеяло и свесил с кровати ноги, как Вера, будто и не спала минутой раньше, назидательно проворчала:
– Пошто и взбулгачился? Или нелегкая понесёт? Господи, – с позевотой заключила она, шумно, с подъёмчиком, повернулась к стене лицом и зарылась в подушку, чтобы доглядеть сладкие заревые сны.
Борис посидел на грядке кровати, вздохнул с тихой обреченностью и скользнул голыми ногами на пол. Но прежде чем одеться, он на цыпочках прошёл к приоткрытой двери и заглянул к сынам в смежную комнату – все трое спали: Петька с Ванюшкой, Федька – один. «Эка, властный парень растёт, с «карактером», – добродушно усмехнувшись, подумал Борис и опять же невольно вздохнул – о, эти вздохи, ну, как зараза прилепились, стали привычкой в курбатовские годы. Теперь хоть в семье не замечают, а то бывало, как только вздохнет, жена и руки опустит: «Да ты что, друг милый, – ровно кого схоронил – вздыхаешь-то как».
А несла нелегкая Бориса на Имзу удить рыбу. Вот ведь, отродясь рыбаком не слыл, считал – детское это дело, ребячье, окуньков-то на крючок ловить. А вот пристрастился, словно кто гонит из дома вон.
Ополоснув лицо и быстро одевшись, Борис тотчас закурил – тоже привычка последних лет: бывало не ест до восьми-девяти – и не закурит, а теперь глаза не успеет раскрыть – за папиросу – закурил и вышел на крыльцо. Дождя не было, но казалось – шелохнись ветерок, чуть колыхни наволоку – и вновь оросит. Затянувшись разок-другой тяжелым ядовитым дымом, Борис чему-то невесело усмехнулся, замедленно провел ладонью по венцу дома, отодрал тоненькую плёночку подкорья: крепкий дом, новый дом, ещё и бревна не остарели, а не люб, холоден новый дом, бездушен…
Минут пятнадцать спустя Борис вышел уже одетый для реки: в прорезиновом плаще с башлыком, в кирзовых рыжих сапогах – по такой гнили ни один крем не держится, а деготь в деревне забыли как и пахнет. В руках у него было две удочки и котелок – высокое конусное ведерко с крышкой – там и приманка для рыбы, и для себя завтрак в тряпице.
А дом по-прежнему мирно спал: и который уже год вот так-то. Казалось бы, радоваться надо – нет же: пахнёт да пахнёт от тихого мирного дома вечным покоем – тут и вздохнешь, и закуришь натощак, а то и выругаешься несусветно – нет, не на жену, не на детей, а на весь этот унылый недеревенский покой. Хотя что бы и тревожиться, подниматься да баклуши бить, когда огород посажен, а во дворе ни коровы, ни козы, ни поросенка – ничего, кроме десятка куриц с петухом, да и те так – для побудки.
Дом Сиротиных стоял третьим от дальнего конца Курбатихи, и к Имзе можно было бы пройти или за вторым двором по тору или же – чего проще! – через свой усад, прямиком через луга, трава не вымахала по уши, не утонешь. Однако Борис прошёл ещё за десяток дворов в глубь Курбатихи, и наконец коротко, по-хозяйски требовательно стукнул в боковое окно одного из домов.
И точно ждали: занавесочка на окне раздвинулась, створки рамы откинулись, в окне нарисовалась заспанная торгашка – так её без злобы? называли – Феня в модной синтетической сорочке с кружевами на груди. Поняли друг друга без слов: Борис сунул в руку Фени пятерку, Феня Борису – пол-литра водки. Вместо сдачи она бесстыже всплеснула голыми руками, закрыла створки окна, осторожно, чтобы не разбудить мужа, и задернула шторку.
Борис только головой крутнул – полтора рубля враз и заработала Феня. А что – не хочешь, так и не бери… Он опустил поллитровку в котелок и понуро побрел по мокрой тропке в луга, к Имзе.
И ещё долго маячила его фигура в сером ненастном рассвете.
* * *
Вышел Борис к омуточку – в этом месте Имза делала свою очередную петлю – к тому самому омуточку, в котором так любила купаться перелетихинская ребятня и за право купаться в котором вечно воевавшая с курбатовскими сверстниками… Отвоевались – бойцов в Перелетихе нет. Хотя и омуток был не прежним, но и сам-то Борис теперь уже находился на противоположном берегу, на курбатовском. Так вот и сменились берега, а мнилось – рубеж пройден, граница пересечена.
Он достал из-под бережка сухую досточку, положил в её же гнездо-след и сам на неё сел, упершись каблуками кирзачей тоже в свой след; сел – и вздохнул обреченно, так что на миг и самому смешно стало: и что за вздохи на самом-то деле, житуха – умирать не надо, за работу платят, а тут вздохи… Энергично размял мякиш хлеба в лепешечку – для приманки, – положил ее на концы двух удилищ и осторожно опустил в оконце между лопушками кувшинок. Распустил лески, наживил крючки, аккуратно забросил на клев и лишь тогда неторопливо взялся за водку, чтобы ни свет ни заря приложиться.
Набулькал в солдатскую кружку; перекосился, понюхал хлеб, похрустел луком и уже через минуту почувствовал, как тупая боль из груди отступает, размягчается и точно расходится по всему беспредельному телу – легче становится, опустошённее. И вдруг подумалось горько: «Господи, уж не спился ли вконец… чур, чур, не дури – ведь трое сыновей-мальцов… хотя какие уж мальцы – женихи!» Однако и эта реальная боль-тревога стала уже привычной, глубоко не волновала – так только, легким трепетом-испугом напоминала о себе.
Творилось что-то неладное, но что – понять Борис не мог, хотя замечал даже перемены в своем характере. Бывало, в праздники чем больше выпивал, тем веселее становился – уходил от вечной нужды и заботы, – и пел, и даже плясал, и делался говорливым. Теперь же с каждой рюмкой лишь безнадежнее мрачнел, тяжелел, обретая и обживая новые заботы, новую нужду, а уж петь-плясать – и вовсе отучился. Поначалу думал: возраст, – но затем понял: нет, не возраст – что-то в душе повернулось.
Замолчал, охмурился Борис – и это было так наглядно, что над ним даже подтрунивали свои, перелетихинские, мужики: эва, мол, ты никак в Перелетихе молодуху свою и оставил… И в этом была доля правды: не молодуху – отчину.
2
После того как схоронили мать, окончательно и решили переселяться в Курбатиху. Возможно, посомневались бы и ещё, не поделись Алексей деньжишками. И оставил-то крохи, около двухсот, но для деревни – деньги, которые ко всему не рассоришь, не прогуляешь – пожертвованы на дело. Вот и сели считать, сколько всех-то наберётся, и набралось – опять же крохи! – со всей мелочишкой пятьсот. Для новой застройки мало, но и начинать можно.
Правда, не погорельцы, не после пожара – куда бы и спешить! Но когда уже решено, то и откладывать на долгий срок – нелепо. И Борис, подтянув ремень, решил тряхнуть «стариной», колхоз предложил ссуду – взяли тысячу рублей, это уже деньги. Лес выписали на корню, впрочем, на небольшую хибарку – надеялись пристройку поставить из старой избы, однако и опытные люди присоветовали: выписывай самую малость, а где дерево – там пять, с лесником договоритесь – дешевле обойдется… А пока суд да дело – снег-то и лег. Уже в декабре на отведенной деляне Борис с Чачиным валили бензопилой строевую сосну. И когда, казалось, дело уже двинулось, под Новый год дома вдруг состоялся непредвиденный разговор, поначалу показавшийся нелепым. Сели за стол, Нина и рассудила вслух:
– А я, пожалуй, здесь, в Перелетихе, останусь, вы уж одни туда… без меня.
– Как это здесь, как одни… нелепая. – Вера и руки опустила, и глаза ее округлились – как если бы она предстала перед небылицей.
А Борис, ещё не зная, по сути, причины, тотчас все-таки смекнул, понял, что ли, правоту Нины, правду её. Он опустил взгляд и настороженно ждал продолжения разговора… Они с женой давно и накрепко привыкли к тому, что Нина неотлучна, Нина рядом, вместе, Нина – одна семья, что как-то и не подозревали, а точнее, не думали, что и у неё могут быть свои интересы, может быть своя жизнь, которую и ладить она будет своею волей… Но вот ещё что: пока жили в доме – никто не сомневался – всё так, всё ладно, а когда теперь уже было решено – переселяться, то и показалось вдруг нелепым оставаться здесь, в этой, хотя и родной, развалюхе, будто и сами только в гости сюда приехали.
– Да ты рассуди, чего это ты удумала!.. Ой, да оставь ты шутки шутить! – И Вера беспечно отмахнулась от сестры рукой.
– Не шучу я, Вера, не шучу! – И Нина засмеялась. – Я ведь думала, думала я об этом, и вот и решила…
И Нина на редкость спокойно повела речь о том, что, мол, дом здесь родительский, что оставлять его нет причины и нельзя, потому что хранится ведь что-то в нем, живет что-то, кроме сегодняшних его жильцов-хозяев: ноги у нее молодые, можно и побегать в Курбатиху, да и нелепо ей, взрослой и самостоятельной, тащиться вслед за семьей сестры, когда нянчить никого не надо, что насильно ведь дом, поди, сносить не станут, а если решат, то уж тогда и поневоле в Курбатиху, а пока что здесь ей будет хорошо… И ещё о многом сказала Нина, и говорила она с таким спокойствием, с такой убеждённостью, что отмахнуться от слов её уже никак нельзя было, оставалось только удивляться: и когда эта тихоня всё обдумала, выверила, чтобы вот так враз – и выложить: судите, мол, рядите, а я – решила. Но ещё больше схоронилось у нее в сердце, что Нина не пропустила через свои уста. Жило и в ней качество, какое сохраняется во многих и поныне, – чувство самопринижения. Вроде бы и ум есть, да куда там, вроде бы и мысли родятся – только куда уж нам с мыслями да ещё со своими! И бывало ведь так, если даже просится какая-то мысль-идея, которая вот теперь бы и кстати, Нина не могла высказать эту мысль как свою, а говорила оборотисто: «А вот я слышала», – или: «А вот, как говорил один преподаватель в техникуме…» И при этом краснела, смущалась, точно и впрямь похищала чужую мысль или выдвигала давно известное предложение… Действительно, как она могла сказать сестре с мужем, что она за последнее время, собственно, с тех пор, как судьба Перелетихи была решена, постоянно думала и о деревне, и о земле, и о том, что в конце концов пришла к убеждению, что все грядущие перемены – это не естественный ход жизни, не результат естественного развития – так, мол, и не иначе, – а всего лишь временное мероприятие, как это было с коллективизацией или с кукурузой. Нина сама, без посторонней помощи и подсказки, охватила вдруг и поняла, что на обширных и в то же время клочковатых землях России нельзя обойтись без частых деревенек, без малых ферм, без малого стада, точно так же, как не обойтись государству без личной коровы, овцы, курицы, без личного огорода; что малые деревеньки – это сложившаяся веками форма землепользования и, нарушив эту форму, мы невольно нарушили продовольственное хозяйство, так что голодом и ещё насидимся. Более того, Нина пришла к осознанию, что разорение деревенских насиненных гнезд пагубно, но неизбежно – это истребление, эксперимент, хотя заведомо и обреченный на посрамление: пройдет время и вновь начнут открывать и восстанавливать деревеньки – след в след, как они были, хотя и это тоже будет восприниматься мероприятием, и только когда уже волчицей взвоет голод, когда от эксперимента опухнут языки и опустятся руки, тогда только и взвопят: делайте, что хотите, живите, как хотите – накормите, замирает жизнь! Тогда-то и будет сделан очередной шаг естественного развития – появится новая форма землепользования. Жизнь укажет, нужда научит – и формы определятся. Но случится это не раньше, как в новом веке. А двадцатый век – экспериментальный, вышедший из повиновения, мечущийся между добром и злом, между разумом и безумием, век сроков, век безвременья… Ну, как обо всем этом могла бы сказать Нина? Ну, выслушают, ну и скажут: ты что, девка, или рехнулась, или умнее других себя возомнила? Негоже так-то… Нет уж, лучше помолчать.
А Вера и Борис решили иначе: повзрослела Нинуха, решила отделиться. Правда, Борис мужским чутьем хозяина разумел и другое: и ему не след бы трогаться с места. Только ведь дети, сыновья, трое их, как с ними-то быть, если даже школы в Перелетихе не осталось… Значит, такова доля, таков крест, и крест этот – его, ему этот крест и нести.
* * *
За зиму было сделано немало: и лес вывезен, и пропущен на пилораме в соседнем совхозе, и кирпич с цементом завезли, и шифер – материал для дома в основном был собран.
А в апреле Борис уже нанял шабашников рубить сруб; косяки, рамы, двери тоже делали на заказ – в остальном Борис надеялся на свои руки, на помощь деревенских мужиков… Но уже с зимы, с валки леса, началось хмельное времечко. Знал Борис про хмельную беду, но в подробностях такого даже и не подозревал: как будто всё оценивалось бутылками, всё можно было достать и сделать за бутылки, без бутылок – никак, и вот беда – при всяком разе и самому приходилось пить. И это так изнуряло, выматывало, что за год Борис буквально постарел: потемнел лицом, осунулся, волосы поседели, и когда уже в ноябре поставили печь, сидя за столом рядом с печниками, он вдруг обхватил голову руками, застонал и заплакал.
Выждав короткое время, как будто и вовсе безучастно пожилой мастер-печник спросил:
– Ты что это, паря, или уж так с домом упахтался?.. А ты давай-ка вот ещё по лафетничку – оно и обмякнет.
Борис Федорович Споров
Волжский роман
Роман-трилогия «Живица» состоит из книг «Исход», «Жизнь без праздников», «Колодец» и имеет подзаголовок «Хроника одной семьи». Струнины – родные погибшего фронтовика из деревни Перелетиха Горьковской области. С первой до последней страницы мир вращается вокруг этой семьи.
В данном издании публикуется завершающая часть трилогии.
Книга «Жизнь без праздников» описывает период «революции» Хрущева. Полным ходом идет усиление колхозов, строительство крупных агрокомплексов и, как следствие, запустение неперспективных деревень. В городе на строительстве наступает смена поколений. Судьбы родителей и детей претерпевают тяжелую ломку. И только младшая из Струниных, Нина, все ещё крепится, оставаясь с племянником Ваней в порушенной, заброшенной Перелетихе.
Книга «Колодец» рассказывает о возвращении Струниных к родовым истокам, в родную деревню, где и жить негде, и даже вечные поильцы – ключи – иссякли. Начинается возрождение хозяйства и возврат к вере. Всё как будто становится на круги своя, расставляя Струниных по определившимся местам. Но главное: все живы – перемогли. Жизнь продолжается.
Борис Споров
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
© Споров Б.Ф., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Жизнь без праздников
Часть первая
Глава первая
1
Май 1971 года выдался теплым и на редкость дождливым. Дожди, казалось, не прекращались с минувшей осени: шли и в ноябре, и в декабре, а в канун Нового года разрядилась ещё и молния. Самая что ни на есть зима, вокруг же черные поля под черепицей наледи, и в небе поблескивает да погромыхивает. Выпадали дожди и после Нового года – по снегу, а уж с Евдокии сеяло с перерывами числа до двадцатого апреля. Затем недели две стояла душная жара, успели даже отсеяться, но уже в начале мая небо вновь надежно заволокло – и не было дня без примочки.
А Борису и вовсе порой мнилось, что дожди не прекращаются уже бесконечно долгие годы – с тех самых пор, как похоронили тещу, мать, Елизавету Алексеевну, и затеяли новостройку в Курбатихе. Срок немалый – миновало шесть лет, этот – седьмой. Эх и затянулось же ненастье! И впереди – без просвета.
День был воскресный… Однако проснулся Борис рано. Собственно, не проснулся – он и всю-то ночь только то и делал, что ворочался с боку на бок – рано поднялся. И лишь откинул одеяло и свесил с кровати ноги, как Вера, будто и не спала минутой раньше, назидательно проворчала:
– Пошто и взбулгачился? Или нелегкая понесёт? Господи, – с позевотой заключила она, шумно, с подъёмчиком, повернулась к стене лицом и зарылась в подушку, чтобы доглядеть сладкие заревые сны.
Борис посидел на грядке кровати, вздохнул с тихой обреченностью и скользнул голыми ногами на пол. Но прежде чем одеться, он на цыпочках прошёл к приоткрытой двери и заглянул к сынам в смежную комнату – все трое спали: Петька с Ванюшкой, Федька – один. «Эка, властный парень растёт, с «карактером», – добродушно усмехнувшись, подумал Борис и опять же невольно вздохнул – о, эти вздохи, ну, как зараза прилепились, стали привычкой в курбатовские годы. Теперь хоть в семье не замечают, а то бывало, как только вздохнет, жена и руки опустит: «Да ты что, друг милый, – ровно кого схоронил – вздыхаешь-то как».
А несла нелегкая Бориса на Имзу удить рыбу. Вот ведь, отродясь рыбаком не слыл, считал – детское это дело, ребячье, окуньков-то на крючок ловить. А вот пристрастился, словно кто гонит из дома вон.
Ополоснув лицо и быстро одевшись, Борис тотчас закурил – тоже привычка последних лет: бывало не ест до восьми-девяти – и не закурит, а теперь глаза не успеет раскрыть – за папиросу – закурил и вышел на крыльцо. Дождя не было, но казалось – шелохнись ветерок, чуть колыхни наволоку – и вновь оросит. Затянувшись разок-другой тяжелым ядовитым дымом, Борис чему-то невесело усмехнулся, замедленно провел ладонью по венцу дома, отодрал тоненькую плёночку подкорья: крепкий дом, новый дом, ещё и бревна не остарели, а не люб, холоден новый дом, бездушен…
Минут пятнадцать спустя Борис вышел уже одетый для реки: в прорезиновом плаще с башлыком, в кирзовых рыжих сапогах – по такой гнили ни один крем не держится, а деготь в деревне забыли как и пахнет. В руках у него было две удочки и котелок – высокое конусное ведерко с крышкой – там и приманка для рыбы, и для себя завтрак в тряпице.
А дом по-прежнему мирно спал: и который уже год вот так-то. Казалось бы, радоваться надо – нет же: пахнёт да пахнёт от тихого мирного дома вечным покоем – тут и вздохнешь, и закуришь натощак, а то и выругаешься несусветно – нет, не на жену, не на детей, а на весь этот унылый недеревенский покой. Хотя что бы и тревожиться, подниматься да баклуши бить, когда огород посажен, а во дворе ни коровы, ни козы, ни поросенка – ничего, кроме десятка куриц с петухом, да и те так – для побудки.
Дом Сиротиных стоял третьим от дальнего конца Курбатихи, и к Имзе можно было бы пройти или за вторым двором по тору или же – чего проще! – через свой усад, прямиком через луга, трава не вымахала по уши, не утонешь. Однако Борис прошёл ещё за десяток дворов в глубь Курбатихи, и наконец коротко, по-хозяйски требовательно стукнул в боковое окно одного из домов.
И точно ждали: занавесочка на окне раздвинулась, створки рамы откинулись, в окне нарисовалась заспанная торгашка – так её без злобы? называли – Феня в модной синтетической сорочке с кружевами на груди. Поняли друг друга без слов: Борис сунул в руку Фени пятерку, Феня Борису – пол-литра водки. Вместо сдачи она бесстыже всплеснула голыми руками, закрыла створки окна, осторожно, чтобы не разбудить мужа, и задернула шторку.
Борис только головой крутнул – полтора рубля враз и заработала Феня. А что – не хочешь, так и не бери… Он опустил поллитровку в котелок и понуро побрел по мокрой тропке в луга, к Имзе.
И ещё долго маячила его фигура в сером ненастном рассвете.
* * *
Вышел Борис к омуточку – в этом месте Имза делала свою очередную петлю – к тому самому омуточку, в котором так любила купаться перелетихинская ребятня и за право купаться в котором вечно воевавшая с курбатовскими сверстниками… Отвоевались – бойцов в Перелетихе нет. Хотя и омуток был не прежним, но и сам-то Борис теперь уже находился на противоположном берегу, на курбатовском. Так вот и сменились берега, а мнилось – рубеж пройден, граница пересечена.
Он достал из-под бережка сухую досточку, положил в её же гнездо-след и сам на неё сел, упершись каблуками кирзачей тоже в свой след; сел – и вздохнул обреченно, так что на миг и самому смешно стало: и что за вздохи на самом-то деле, житуха – умирать не надо, за работу платят, а тут вздохи… Энергично размял мякиш хлеба в лепешечку – для приманки, – положил ее на концы двух удилищ и осторожно опустил в оконце между лопушками кувшинок. Распустил лески, наживил крючки, аккуратно забросил на клев и лишь тогда неторопливо взялся за водку, чтобы ни свет ни заря приложиться.
Набулькал в солдатскую кружку; перекосился, понюхал хлеб, похрустел луком и уже через минуту почувствовал, как тупая боль из груди отступает, размягчается и точно расходится по всему беспредельному телу – легче становится, опустошённее. И вдруг подумалось горько: «Господи, уж не спился ли вконец… чур, чур, не дури – ведь трое сыновей-мальцов… хотя какие уж мальцы – женихи!» Однако и эта реальная боль-тревога стала уже привычной, глубоко не волновала – так только, легким трепетом-испугом напоминала о себе.
Творилось что-то неладное, но что – понять Борис не мог, хотя замечал даже перемены в своем характере. Бывало, в праздники чем больше выпивал, тем веселее становился – уходил от вечной нужды и заботы, – и пел, и даже плясал, и делался говорливым. Теперь же с каждой рюмкой лишь безнадежнее мрачнел, тяжелел, обретая и обживая новые заботы, новую нужду, а уж петь-плясать – и вовсе отучился. Поначалу думал: возраст, – но затем понял: нет, не возраст – что-то в душе повернулось.
Замолчал, охмурился Борис – и это было так наглядно, что над ним даже подтрунивали свои, перелетихинские, мужики: эва, мол, ты никак в Перелетихе молодуху свою и оставил… И в этом была доля правды: не молодуху – отчину.
2
После того как схоронили мать, окончательно и решили переселяться в Курбатиху. Возможно, посомневались бы и ещё, не поделись Алексей деньжишками. И оставил-то крохи, около двухсот, но для деревни – деньги, которые ко всему не рассоришь, не прогуляешь – пожертвованы на дело. Вот и сели считать, сколько всех-то наберётся, и набралось – опять же крохи! – со всей мелочишкой пятьсот. Для новой застройки мало, но и начинать можно.
Правда, не погорельцы, не после пожара – куда бы и спешить! Но когда уже решено, то и откладывать на долгий срок – нелепо. И Борис, подтянув ремень, решил тряхнуть «стариной», колхоз предложил ссуду – взяли тысячу рублей, это уже деньги. Лес выписали на корню, впрочем, на небольшую хибарку – надеялись пристройку поставить из старой избы, однако и опытные люди присоветовали: выписывай самую малость, а где дерево – там пять, с лесником договоритесь – дешевле обойдется… А пока суд да дело – снег-то и лег. Уже в декабре на отведенной деляне Борис с Чачиным валили бензопилой строевую сосну. И когда, казалось, дело уже двинулось, под Новый год дома вдруг состоялся непредвиденный разговор, поначалу показавшийся нелепым. Сели за стол, Нина и рассудила вслух:
– А я, пожалуй, здесь, в Перелетихе, останусь, вы уж одни туда… без меня.
– Как это здесь, как одни… нелепая. – Вера и руки опустила, и глаза ее округлились – как если бы она предстала перед небылицей.
А Борис, ещё не зная, по сути, причины, тотчас все-таки смекнул, понял, что ли, правоту Нины, правду её. Он опустил взгляд и настороженно ждал продолжения разговора… Они с женой давно и накрепко привыкли к тому, что Нина неотлучна, Нина рядом, вместе, Нина – одна семья, что как-то и не подозревали, а точнее, не думали, что и у неё могут быть свои интересы, может быть своя жизнь, которую и ладить она будет своею волей… Но вот ещё что: пока жили в доме – никто не сомневался – всё так, всё ладно, а когда теперь уже было решено – переселяться, то и показалось вдруг нелепым оставаться здесь, в этой, хотя и родной, развалюхе, будто и сами только в гости сюда приехали.
– Да ты рассуди, чего это ты удумала!.. Ой, да оставь ты шутки шутить! – И Вера беспечно отмахнулась от сестры рукой.
– Не шучу я, Вера, не шучу! – И Нина засмеялась. – Я ведь думала, думала я об этом, и вот и решила…
И Нина на редкость спокойно повела речь о том, что, мол, дом здесь родительский, что оставлять его нет причины и нельзя, потому что хранится ведь что-то в нем, живет что-то, кроме сегодняшних его жильцов-хозяев: ноги у нее молодые, можно и побегать в Курбатиху, да и нелепо ей, взрослой и самостоятельной, тащиться вслед за семьей сестры, когда нянчить никого не надо, что насильно ведь дом, поди, сносить не станут, а если решат, то уж тогда и поневоле в Курбатиху, а пока что здесь ей будет хорошо… И ещё о многом сказала Нина, и говорила она с таким спокойствием, с такой убеждённостью, что отмахнуться от слов её уже никак нельзя было, оставалось только удивляться: и когда эта тихоня всё обдумала, выверила, чтобы вот так враз – и выложить: судите, мол, рядите, а я – решила. Но ещё больше схоронилось у нее в сердце, что Нина не пропустила через свои уста. Жило и в ней качество, какое сохраняется во многих и поныне, – чувство самопринижения. Вроде бы и ум есть, да куда там, вроде бы и мысли родятся – только куда уж нам с мыслями да ещё со своими! И бывало ведь так, если даже просится какая-то мысль-идея, которая вот теперь бы и кстати, Нина не могла высказать эту мысль как свою, а говорила оборотисто: «А вот я слышала», – или: «А вот, как говорил один преподаватель в техникуме…» И при этом краснела, смущалась, точно и впрямь похищала чужую мысль или выдвигала давно известное предложение… Действительно, как она могла сказать сестре с мужем, что она за последнее время, собственно, с тех пор, как судьба Перелетихи была решена, постоянно думала и о деревне, и о земле, и о том, что в конце концов пришла к убеждению, что все грядущие перемены – это не естественный ход жизни, не результат естественного развития – так, мол, и не иначе, – а всего лишь временное мероприятие, как это было с коллективизацией или с кукурузой. Нина сама, без посторонней помощи и подсказки, охватила вдруг и поняла, что на обширных и в то же время клочковатых землях России нельзя обойтись без частых деревенек, без малых ферм, без малого стада, точно так же, как не обойтись государству без личной коровы, овцы, курицы, без личного огорода; что малые деревеньки – это сложившаяся веками форма землепользования и, нарушив эту форму, мы невольно нарушили продовольственное хозяйство, так что голодом и ещё насидимся. Более того, Нина пришла к осознанию, что разорение деревенских насиненных гнезд пагубно, но неизбежно – это истребление, эксперимент, хотя заведомо и обреченный на посрамление: пройдет время и вновь начнут открывать и восстанавливать деревеньки – след в след, как они были, хотя и это тоже будет восприниматься мероприятием, и только когда уже волчицей взвоет голод, когда от эксперимента опухнут языки и опустятся руки, тогда только и взвопят: делайте, что хотите, живите, как хотите – накормите, замирает жизнь! Тогда-то и будет сделан очередной шаг естественного развития – появится новая форма землепользования. Жизнь укажет, нужда научит – и формы определятся. Но случится это не раньше, как в новом веке. А двадцатый век – экспериментальный, вышедший из повиновения, мечущийся между добром и злом, между разумом и безумием, век сроков, век безвременья… Ну, как обо всем этом могла бы сказать Нина? Ну, выслушают, ну и скажут: ты что, девка, или рехнулась, или умнее других себя возомнила? Негоже так-то… Нет уж, лучше помолчать.
А Вера и Борис решили иначе: повзрослела Нинуха, решила отделиться. Правда, Борис мужским чутьем хозяина разумел и другое: и ему не след бы трогаться с места. Только ведь дети, сыновья, трое их, как с ними-то быть, если даже школы в Перелетихе не осталось… Значит, такова доля, таков крест, и крест этот – его, ему этот крест и нести.
* * *
За зиму было сделано немало: и лес вывезен, и пропущен на пилораме в соседнем совхозе, и кирпич с цементом завезли, и шифер – материал для дома в основном был собран.
А в апреле Борис уже нанял шабашников рубить сруб; косяки, рамы, двери тоже делали на заказ – в остальном Борис надеялся на свои руки, на помощь деревенских мужиков… Но уже с зимы, с валки леса, началось хмельное времечко. Знал Борис про хмельную беду, но в подробностях такого даже и не подозревал: как будто всё оценивалось бутылками, всё можно было достать и сделать за бутылки, без бутылок – никак, и вот беда – при всяком разе и самому приходилось пить. И это так изнуряло, выматывало, что за год Борис буквально постарел: потемнел лицом, осунулся, волосы поседели, и когда уже в ноябре поставили печь, сидя за столом рядом с печниками, он вдруг обхватил голову руками, застонал и заплакал.
Выждав короткое время, как будто и вовсе безучастно пожилой мастер-печник спросил:
– Ты что это, паря, или уж так с домом упахтался?.. А ты давай-ка вот ещё по лафетничку – оно и обмякнет.