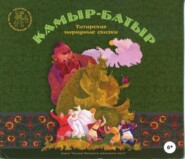По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Время колоть лед
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Думаю, что Слава приезжал со своей клоунской командой, которая тогда называлась “Лицедеи”, на фестиваль в Казань. И, конечно, я смотрела и их, и много чего еще. И просто дурела от увиденного.
Единственной точкой, в которой всё то невероятное, что я видела, могло пересечься со мной, был наш Казанский институт культуры. Там были подготовительные курсы. Я решила пойти на них, но денег у меня не было, а сказать кому-то, что они мне необходимы, что я собираюсь стать артисткой, я не могла. Уверена была: это временная история, не надо никому о ней рассказывать. Тогда я решила, что сама заработаю на свою мечту. И пошла работать на кондитерскую фабрику.
ГОРДЕЕВА: Кем?
ХАМАТОВА: Упаковщицей. Я делала коробки для всевозможных конфет и тортов. Потом мыла посуду в столовой на огромном заводе, то есть не мыла в прямом смысле слова, а ставила ее в огромный агрегат, который эту посуду мыл. Это было всё очень романтично.
ГОРДЕЕВА: А тебя кто-то устраивал на эти работы или ты сама туда приходила?
ХАМАТОВА: Конечно, устраивалась через кого-то. На завод меня устроила бабушка, которая там работала врачом и, собственно, проверяла чистоту вымытой мною посуды. Потом я работала у папы на фирме, тоже в столовой, там была прекрасная украинская женщина, которая меня научила резать огурцы так, чтобы никто не понял, что их мало, а всем бы казалось, что их много. Короче говоря, всё лето я зарабатывала. Но не удержалась и купила себе очень крутой плеер с наушниками-капельками, тогда это был последний писк моды. Плеер этот мне страшно помог в школе: я с ним ходила сдавать биологию и сдала ее на пять, потому что никому в голову не пришло, что я сижу на экзамене в никому не заметных наушниках и перекручиваю под партой кассету внутри плеера с ответом на нужный вопрос, который я дома себе предусмотрительно записала.
ГОРДЕЕВА: Сейчас будет смешно: со своей первой зарплаты санитарки в отделении патологии новорожденных ростовского Института акушерства и педиатрии я купила себе плеер, Чулпан.
ХАМАТОВА: С наушниками?
ГОРДЕЕВА: Да. С наушниками-капельками. Он стоил двести сорок два рубля четырнадцать копеек. И мне еще осталось на кассеты. Обе – фирмы Sony. Одна голубенькая – как раз с “Наутилусом Помпилиусом” на одной стороне и “Кино” – на другой, а вторая красно-черная с “Аквариумом” и опять же “Кино”.
ХАМАТОВА: Нам было проще – у нас была казанская фабрика “Тасма”, выпускавшая кассеты. Купить их было невозможно, но мы как-то доставали. Но трагедия, Катя, была в том, что денег, которые я заработала летом, да еще и за вычетом потраченных на плеер, на курсы не хватало. И я решила сдать в ломбард семейные ценности: серебряные ложки, доставшиеся от бабушки и прабабушки, которыми мы никогда не пользовались, потому что они были очень ценные. Я сдавала их не разом, а по одной, в надежде, что потом заработаю и выкуплю. Сдала, наверное, ложки три. И пошла на курсы вместе со своей подружкой Олесей. Мы там оказались вдвоем. Буквально вдвоем: никто больше в Казани так театра не жаждал, но мы не переживали, решив, что остальные просто не нашли на курсы денег.
Однажды на занятие наших “курсов” пришел человек с татарской кафедры…
ГОРДЕЕВА: Что это значит?
ХАМАТОВА: В Казанском институте культуры есть русская и татарская кафедры. У нас же два языка, как бы две литературные традиции, театральные. И вот приходит такой суровый человек и говорит мне: “Так, ты будешь поступать к нам. Выучишь язык”.
ГОРДЕЕВА: А ты языка не знаешь?
ХАМАТОВА: Да, к сожалению, я не знаю татарского языка, у нас дома все говорили по-русски.
ГОРДЕЕВА: Но ты же – татарка!
ХАМАТОВА: Да, конечно, я татарка. У меня татарское имя, татарские корни, но довольно долгое время всё это было погребено под слоями чудовищной ситуации, в которой я выросла. У меня есть дядя, его тоже зовут Чулпан. Он сейчас заканчивает книгу “Зов памяти” о нашей родословной, там такое начало: “Язык, Мелодия, Память – опора бытия духа. Первым исчезает Язык, остаются Мелодия и Память, затем та же участь постигает Мелодию. Третье поколение лишается Памяти”. Так вот, к сожалению, я и есть это третье поколение. Вокруг меня все боялись говорить правду и молчали. Мой прадед был хозяином обувной фабрики, артели, где работало довольно много наемных рабочих. Он был раскулачен. Другой прадед – тоже раскулачен, у них отняли всё, и моя прабабушка одна с пятью дочками оказалась в Казани.
А папа дяди Чулпана был муллой – его арестовали и расстреляли. И для дяди эта тема закрыта раз и навсегда. Мой дедушка молчал о своем отце, моем прадедушке. Но он и про другое молчал: никогда не вспоминал войну, например. И в школе я попадала в идиотское положение: когда нам поручали писать сочинение про подвиги дедушек, то у всех были такие большие красочные сочинения, полные подвигов, а у меня… У меня не было ничего, потому что я приходила к дедушке, спрашивала его про войну, а он, хоть и дошел до Польши, отвечал: “Война? Война – это холодно, грязно и вши”. И всё. Получается, я росла в ситуации вынужденного умолчания прошлого. От всей истории семьи сохранилось только несколько фотографий. На одной сидит прапрабабушка. У нее трогательный татарский платочек на голове.
Это я теперь понимаю, почему моя тетя от безысходности, пытаясь противостоять системе, в которой единственный официальный язык русский, постоянно мне твердила: “Запомни, еще Горький сказал: татарин – это звучит гордо”. Ей казалось, что через призму советской пропаганды, которой были напичканы наши умы, до меня можно донести действительную значимость моей национальности. Это такая отчаянная попытка преодолеть молчание.
ГОРДЕЕВА: То есть фактически – ответ на молчание.
ХАМАТОВА: Это был ответ, который долгое время меня устраивал. Понимаешь, я росла в Казани, столице Татарской республики, но была оторвана от культуры и от своих корней. В классе у нас учились четыре татарина – я, мальчики Тимур и Эдик и девочка Лиля. Когда все уходили домой, нас заставляли (это для татар было обязательным условием) оставаться на дополнительный урок татарского языка. Учительница впихивала нас в класс, и мы вчетвером вынуждены были сидеть, когда все уже давно гоняют в футбол или просто слоняются по городу, и зубрить этот, как мне тогда казалось, ненужный, ненавистный и непонятный татарский язык. Причем у меня и мальчика Тимура в семье не говорили по-татарски, только у девочки Лили бабушка говорила, Лиля хоть что-то знала. По большому счету, эти два-три дополнительных урока в неделю нам не давали ничего, только еще больше отдаляли. Но мы зубрили сказки и всякие притчи типа “Шурале”. И очень быстро и радостно их забывали. Потом случилась Перестройка. И Татарстан как-то начал беспокоиться по поводу самоидентификации и захотел отделяться. И все как-то бойко и резко вспомнили свои национальные традиции и приметы. Например, моя бабушка, когда я выходила замуж за Ивана Волкова, русского парня, сказала: “Прокляну. На свадьбу не приду, и не жди”. Я опешила. Но в день свадьбы вдруг раздается звонок, открываю дверь, стоит даваника, моя бабушка. Я ей говорю: “Как хорошо, что ты пришла. Я так рада тебя видеть!” Она: “Это не я решила прийти. Это там решили (и – пальцем вверх!). Мне приснился сон, что я ем свинину. И она оказалась очень вкусной”. Так она мне разрешила выйти замуж.
Именно в это время, кстати, у нас стали поддерживать носителей языка, школы срочно перешли на татарский полностью, но оказалось, что его некому преподавать: конечно, приезжало много людей из деревень, которые да, знали татарский, но при этом были не сильно образованы. Мой младший брат Шамиль пошел учиться в татарскую гимназию. Все предметы он учил по-татарски. Я как-то прихожу за ним в школу и вижу, на доске написано: “Завтра принести к труту – через т! – клей и бумагу”. Это еще больше меня оттолкнуло от культуры и языка. Уже позже, учась в Москве, я задумала ставить татарский танец для одного экзамена, приехала на каникулы в Казань, стала искать музыку. Вся татарская музыка, что была в девяностые доступна, оказалась странного одинакового качества: пошлая страшная мелодия, сыгранная на синтезаторе. Всё это официализированное “возвращение к корням” было таким неестественным, что, конечно, оттолкнуло меня еще сильнее. К огромному моему сегодняшнему сожалению. У вас дома говорили о национальности?
ГОРДЕЕВА: О том, что я еврейка, я узнала от дедушки, который вообще-то не был никаким евреем, а был сыном репрессированного и расстрелянного белого офицера. Дедушка женился на моей бабушке-еврейке, чьих родителей в тридцать седьмом году арестовали. Прадедушку тут же расстреляли. Прабабушка провела двадцать лет в лагерях. Вышла на свободу после смерти Сталина. До семьи своей дочери, то есть моей бабушки, прабабушка Елизавета добралась в пятьдесят шестом. И два года, до самой своей смерти, прабабушка посвятила одному: восстановлению доброго имени мужа, Соломона Раскина. Я, когда разбирала эти документы, была потрясена. Вот представь, ты двадцать лет не видишь родных людей, не видишь, как растет твоя дочь – бабушке было одиннадцать, когда родителей арестовали, – тебя нет на свадьбе дочери, ты не видишь, как рождается твоя внучка. Я бы вышла из этого лагеря, если бы вышла, и сказала: да будьте вы прокляты! А она вышла и писала письма и запросы, чтобы прадедушку восстановили в партии, в должности, чтобы его “честное имя советского человека” было восстановлено. Меня это потрясло.
ХАМАТОВА: Вероятно, с точки зрения того времени ей это было важно.
ГОРДЕЕВА: Я очень мало знаю о прабабушке. Бабушка почти не рассказывала про нее. Ну, может, кроме того, что она не умела обниматься. Она же всю жизнь провела с теми, кого не обнимешь.
ХАМАТОВА: Возможно, именно поэтому, оказавшись на свободе, она так цеплялась за жизнь, которую помнила. Так что тебе сказал дедушка, чтобы объяснить, что ты еврейка?
ГОРДЕЕВА: Он меня встречал из садика, а я ему и говорю: “Ваня Петров – жиденок, представляешь?” Мой дедушка Николай Георгиевич Фридрих – очень мягкий человек с тихим голосом и сухой узкой ладонью – вырос в обеспеченной русско-немецкой дворянской семье, где говорили по-французски и по-немецки. Дедушка потерял своих родителей во время репрессий, прошел войну и уже после нее, в самые сложные и тяжелые годы махрового антисемитизма, женился на еврейке Розе Раскиной, моей будущей бабушке. Так вот, услышав от меня пятилетней этот важный вопрос про национальность, дедушка наклонился ко мне и очень спокойно сказал: “Правильно говорить не жиденок, а еврей. И это ты – еврейка. А Ваня – русский”. Тем и закончилось. До казачьих погромов середины девяностых у нас в Ростове было как-то довольно просто с национальным вопросом. Там столько национальностей, что и не разберешься. И столько людей, приехавших в город по самым разным причинам в послевоенное время, что о прошлом – о происхождении, национальности, предшествующей истории – не было принято спрашивать.
ХАМАТОВА: В Казани было иначе: существовали темы, про которые было просто принято молчать. Но они всё равно вскрывались: никаким страхом их никуда было не загнать, никаким запугиванием не скрыть. Моя мама выросла в доме своей бабушки, у которой было пять дочерей. И все они со своими семьями в этом доме жили. А прабабушка, то есть мамина бабушка, была главной женщиной в доме. И вот как-то моя мама, еще совсем девочка, пришла домой с красным галстуком поверх пальто, страшно гордая тем, что ее только что приняли в пионеры. Прабабушка сидела у печки, шевелила кочергой угли. Мама радостно заявила: “Бога – нет!” И бабушка, не поворачиваясь, – бум ей по башке кочергой. У мамы остался шрам. Но про то, что можно и нужно говорить в школе, а что – дома, она запомнила навсегда.
ГОРДЕЕВА: Но это не сподвигло никого начать, например, дома разговаривать по-татарски? У нас было ужасно смешно: моя бабушка помнила немного идиш, а дедушка знал в совершенстве немецкий, на нем в его семье говорили. Так вот они понимали друг друга. И, когда хотели говорить о чем-то тайно, говорили на идише-немецком таком, своем.
ХАМАТОВА: Это всё – страшное наследие сталинского времени: нам предлагалось родиться и прожить свою жизнь в абсолютном отрыве от своих корней, в полнейшем незнании национального, семейного, генетического; у нас это было отнято по факту нашего существования, системе нужен был человек без прошлого. Моя бабушка дома говорила по-русски, но татарский она знала. Дедушка играл на аккордеоне военные песни, но и татарские тоже. Мы всегда пили чай из пиалы… Всё это было так неочевидно и так зыбко. И вот все эти обрывки, кусочки воспоминаний начали всплывать у меня в голове, когда я стала читать роман Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”.
ГОРДЕЕВА: Помню, ты его прочитала и сказала, что никогда отчетливо не мечтала ничего сыграть, но вот теперь мечтаешь – Зулейху.
ХАМАТОВА: Мне казалось, что героиня моложе и вообще – это не я. Но потом я поговорила с Гузель, и выяснилось, что она представляла меня, когда работала над романом. И она очень многие вещи интуитивно точно описала – как будто знала что-то про мою семью. Я даже дядю Чулпана уговорила прочесть эту книгу. И дядя, который ничего про те времена не хочет слышать, прочитав, сказал: “Правильно ты меня уговорила”.
ГОРДЕЕВА: Теперь ты будешь играть, наконец, Зулейху в новом фильме.
ХАМАТОВА: Я волнуюсь. Знаешь, мне эта книга позволила собрать хотя бы фрагмент своей личной истории воедино – сложить разрозненные, крошечные пазлы, не соединяющиеся друг с другом.
ГОРДЕЕВА: Вернемся к тому, что на татарскую кафедру в Институт культуры ты не пошла. Ты начала рассказывать, как человек с кафедры пришел и потребовал, чтобы ты выучила язык…
ХАМАТОВА: И его предложение меня, надо сказать, ошеломило. Но неожиданно женщина, которая вела наши курсы, – замечательная, сильно выпивающая, но очень чуткая женщина, – буквально встает на дыбы и говорит: “Какая еще татарская кафедра? Вы что, не видите, она насквозь пропитана русской литературой? Мы ее не отдадим. Она будет поступать к нам”. Это был какой-то первый знак, первый маячок, что, может быть, всё не зря, что надо не переставать пробовать. Что есть у меня или на меня какая-то все-таки надежда.
Глава 5. “Можно я не буду увядать?”
ГОРДЕЕВА: А каким образом обнаруживают артистические способности в ребенке, в подростке? Как это можно разглядеть? Вообще, настоящий артист – это больше подаренное или наработанное?
ХАМАТОВА: Это подаренное. И в подростковом возрасте уже, как правило, хорошо видно, есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Есть – что?
ХАМАТОВА: Вера.
ГОРДЕЕВА: Это как?
ХАМАТОВА: Ну, вера. Вот стоят перед тобой два человека, и ты говоришь: “Идет дождь”. И по одному видно: идет дождь или на самом деле не идет, а по другому не видно. Он может как угодно кривляться, изображать, что ему сыро, прятаться от дождя, но у него нет этого! А тот, первый, выходит, и ты видишь вместе с ним дождь, чувствуешь его, мерзнешь и мокнешь. Если маленький человек способен передать тебе это состояние – это дар.
ГОРДЕЕВА: При этом он же еще должен не стесняться, так? Потому что стеснение дар, возможно, скроет.
ХАМАТОВА: Если ты действительно видишь дождь, то ты можешь сколько угодно продолжать стесняться, но видеть дождь. Даже среди взрослых артистов есть люди, которые свое стеснение преодолевают всю жизнь и для них каждый выход на сцену – преодоление, а не то что “я вышел и сейчас вас буду поражать”. Но дара это не отменяет и не влияет на него. Дождь или есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Значит, в тебе почувствовали человека, который “видит дождь”?
ХАМАТОВА: Наверное, они что-то такое увидели во мне, потому что вопрос о моем поступлении встал ребром. И пробил тот страшный час, когда мне, наконец, пришлось предупредить родителей, что я несусь по пути порока с невероятной скоростью. Я поговорила с мамой. Если коротко, мама была в ужасе. И она рассказала о моих страшных планах нашей соседке, учительнице русского языка и литературы Маргарите Александровне, про которую маме было известно, что когда-то давно Маргарита Александровна мечтала быть актрисой и певицей, но нашла в себе силы наступить на горло собственной песне и пошла в педагогический. Моя мама подразумевала, что Маргарита Александровна, с высоты своего жизненного опыта, поговорит со мной и даст какой-нибудь дельный совет. Например, скажет: “Посмотри, как прекрасно сложилась моя жизнь. Забудь ты про эти артистические бредни”. Но Маргарита Александровна сказала совершенно другое: “Институт культуры, – сказала она, – это полная ерунда. Там выпускают непрофессиональных режиссеров деревенских театров и непрофессиональных артистов студий при заводских дворцах культуры. Годится только для кружков и секций. Если ты хочешь заниматься серьезно театром, – сказала она, – ты должна поступать в профессиональное театральное заведение, каким является Казанское театральное училище”. Тут маме стало совсем плохо. Потому что ты же понимаешь ситуацию: я неплохо заканчивала школу и вот-вот должна была поступить в высшее учебное заведение. А тут – какое-то театральное училище! ПТУ, куда идут, как думала мама, все эти девятиклассники, которых не взяли учиться ни в старшие классы школы, ни в другое приличное место. Караул: ее дочь идет в ПТУ!
Чтобы не обострять, я продолжаю сдавать экзамены в школе и поступать в финансовый институт. Но как только я туда поступаю, бегу в театральное училище, успевая, правда, только на последний тур. Но мне везет. Экзамены принимает Вадим Кешнер, великий артист казанского БДТ имени В.И. Качалова. В момент встречи с ним надежды на то, что всё само собой рассосется, мне скажут “вы непригодны”, я вернусь домой, и у меня не будет ни конфликтов с родителями, ни дальнейших стремлений изменить свою жизнь, рухнули. Вадим Валентинович сказал: “Приходи и приноси документы. Всё”.
ГОРДЕЕВА: Послушай, но вот если, как ты говоришь, дар “чувствовать дождь” понятен при первой встрече, если Кешнер сразу же понял, что ты – артистка, а не бухгалтер, то откуда берутся страшные истории про великих артистов и артисток, поступивших в театральное только с какого-нибудь пятого-десятого раза?
ХАМАТОВА: А кто тебе сказал, что в приемной комиссии всегда сидят люди, которые чувствуют?