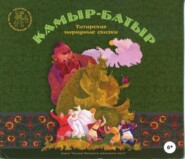По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Время колоть лед
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“Вот в этом доме жил Семён Львович Фарада! – поворачивает вдруг голову где-то у Красных Ворот Чулпан. – В девяносто третьем нас всех вдруг переселили из общежития к нему”. – “Зачем?!” – “Это был октябрь, наша полуреволюция, когда танки били по Белому дому, в котором сидели несогласные с Ельциным депутаты. Другие мятежники захватили Останкино, там шел настоящий бой. Район, где находилось общежитие, был оцеплен, мы не могли туда попасть. И всех нас разобрали по своим домам сокурсники-москвичи. Я оказалась среди тех, кого забрал Миша Полицеймако, сын Семёна Фарады”, – говорит Чулпан. “И как это было?” – “Очень… трепетно”.
“Покровка”, – подытоживает механический голос автобуса. И мы бежим.
Улица Казакова, где стоит “Гоголь-центр”, похожа на руку, что упирается плечом в Садовое кольцо. Предплечье – это железнодорожный мост, а сам театр – это локоть, в изгибе которого у входа собралась толпа, перемешавшая людей нескольких поколений, как их перемешивает и этот театр: почти во всех его спектаклях на сцене одновременно оказываются люди, разница в возрасте которых составляет до семидесяти лет. И им рядом друг с другом комфортно. По крайней мере, так это выглядит со стороны.
Московскую премьеру картины Серебренникова “Лето” решили устроить в “Гоголь-центре”, театре, им созданном. Как и месяц назад в Каннах, как и неделю назад в Сочи, режиссера на премьере нет: он под домашним арестом.
Фильм, со съемок которого Серебренникова увезли в наручниках люди в масках, оказался черно-белым. Но ярким и светлым.
Фильм, досъемки которого шли уже после ареста Серебренникова, полон безоглядной легкости и нежности, он про то, как классно вообще быть молодым и свободным: перекрикивая прибой, они орут самую бесшабашную песню поколения Перестройки. А ветер с залива, будто и нет никакого экрана, дует прямо в лицо сидящим в зале.
Фильм, на монтаж которого пришлись аресты и допросы, предательства и суды и, наконец, смерть мамы режиссера, легок и шутлив: то поет, то танцует.
Фильм, о сценарии которого чуть ли не год говорили разные гадости, оказался целомудрен до невинности: он про благородство и порядочность, свойственную юности.
А еще это фильм о нескольких людях: они молоды, влюблены, бесконечно талантливы и (мы знаем) скоро умрут.
В конце фильма зал рыдал. Не коллективно. Как-то поодиночке. Не прослезился, а именно рыдал. Местами в голос. Когда кончились все до единого титры, включили свет и пришлось выходить из зала, Чулпан сказала: “Знаешь, Кирилл дал нам возможность оплакать нашу юность, проводить ее”.
Поздней ночью, дома, девочки Чулпан попросили показать им “еще что-то про Цоя”. До рассвета мы смотрели кусками то “Иглу”, то какие-то концерты, то интервью Цоя, немногочисленные записи Майка и случайно затесавшиеся в подборку видео квартирников Саши Башлачёва. “Интересно, вы бы дружили, если бы все эти музыканты дожили до наших дней?” – спросила перед сном старшая дочь Чулпан Арина. Этим летом по Москве Арина гуляла с песнями группы “Кино” в наушниках. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА
ХАМАТОВА: Ты сразу полюбила Москву?
ГОРДЕЕВА: Это были долгие отношения. Вначале меня больше всего изумило, что здесь короткое лето. И длинная зима. В первый год своей жизни в Москве я всем рассказывала, что в конце марта, в мой день рождения, мы обязательно поедем на речку жарить шашлыки: такая сцена есть в “Москва слезам не верит”. И я долгое время не понимала, почему люди на меня смотрят, скажем так, с недоумением. Наступил март, и я поняла значение этих взглядов: за окном плотным слоем лежал снег. И никакая весна наступать не собиралась. Звук льда, который колют дворники, стал моим настоящим московским кошмаром: он длится здесь почти до мая!
ХАМАТОВА: Ну ладно тебе, до мая… но до апреля точно. А каким образом ты оказалась на телевидении? С театром понятно: ты учишься, потом идешь служить в театр. В телевизоре же люди обычно появляются какими-то более замысловатыми путями, не так прямолинейно.
ГОРДЕЕВА: У меня иногда возникает ощущение, что мою линию кто-то нарочно рисовал, чертил, чтобы она была прямой: приехав из Ростова, я почти сразу в Москве попала в “Телекомпанию ВИД”. Мне повезло. Я видела своими глазами и “Взгляд”, и “Тему”, и “Час Пик”. Мне выпало счастье, очень, правда, короткое: видеть Листьева и работать в его команде. Меня поразило, какого он высокого роста и как тихо он говорит. И еще – какая у него нетипичная для телевизионщиков, не настырная манера разговаривать с людьми. А главное – ему были действительно интересны собеседники, герои интервью, герои репортажей. Я запомнила, как на какой-то летучке он говорил о том, что “героя надо любить, им надо интересоваться”. Эти совсем немногие часы общения с ним меня перевернули. Я-то в Москву ехала просто поглазеть: мне нравился мой Ростов, я не собиралась заниматься никакой журналистикой, а тем более – телевизионной; я считала это всё баловством и хотела, окончив школу, поступить на романо-германское отделение филфака, а потом ехать учиться во Францию. И всё, в общем-то, так бы и сложилось, если бы я не увидела Листьева, не увидела, как он работает… Ко всему прочему, в какой-то прекрасный день в курилке программы “Тема” выяснилось, что нужно снять один сюжет, а снимать его некому.
ХАМАТОВА: О чем сюжет?
ГОРДЕЕВА: Да неважно о чем – об автомобильных кражах, на самом деле – важно, что я сказала, что могу, я же делала это в Ростове!
ХАМАТОВА: Подожди, а как ты это делала в Ростове?
ГОРДЕЕВА: Видишь ли, придя в ростовский еженедельник “Город N” совсем школьницей, я как-то стремительно погрузилась в ростовскую журналистско-музыкально-литературную, богемную среду. Ее неотъемлемой частью был МАРТ – “Молодежная артель ростовского телевидения”. Там я работала вместе с Сашей Расторгуевым и Кириллом Серебренниковым.
ХАМАТОВА: Не может быть.
ГОРДЕЕВА: Ну, они были большие и взрослые – по крайней мере, взрослее меня! – режиссеры, телеведущие, а меня брали подмастерьем: я снимала арт-сюжеты. Например, про кривые зеркала – материал отбраковки стекольного завода, про поэта Александра Брунько – нашего ростовского гуру, про Эльфриду Павловну – невероятную женщину, олицетворявшую дух богемного Ростова. Мы ужасно любили свой город, мне повезло быть в те годы рядом с Сашей и Кириллом. И важно, что помимо прекрасно проведенного времени они каким-то образом привили мне представления об основах монтажа, о том, что? ты снимаешь и что потом из этого получается. Я никогда не думала, что вот это прекрасное время, которое мы весело проводили вместе, – это и есть “мои университеты”. Но оказалось, что это они и есть. Приехав в Москву, я умела снимать и монтировать. И мне предложили работу.
ХАМАТОВА: Фантастика, Катька!
ГОРДЕЕВА: Представляешь? Работа! В Москве! Для школьницы. Но я и вправду очень сомневалась. И сперва всё-таки поступила на романо-германский и даже поехала в Париж. Но время было такое, как тебе сказать… невозможное для жизни вне России.
ХАМАТОВА: Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Со мной такое случится чуть позже, когда я поеду работать в Германию, но в итоге всё равно вернусь домой. Потому что не смогу ни понять себя в той, другой реальности, ни оставить мысли о том, что в России что-то невероятное происходит, какая-то энергетика новая, молодая, творческая.
ГОРДЕЕВА: Я хорошо помню, как Листьев говорил, что в такое время нельзя не быть со своей страной. Потому что сейчас-то всё и решается. “И если тебе не всё равно, – говорил он, – ты должна быть здесь, чтобы знать: это всё происходило на твоих глазах, вместе с тобой, для тебя. Ты – гражданин, часть страны, без тебя что-то может пойти иначе”. Черт, мы же действительно в это верили. Ты помнишь свой первый приезд в Москву?
ХАМАТОВА: Для меня это было эпохальным событием: я же абсолютно домашний ребенок, которого никак не могут отпустить одного в Москву! Поэтому мы едем с мамой: мама покупает билеты, мы едем на поезде, живем в Москве у папиных институтских друзей. Как сейчас вижу: я глажу старинную бабушкину рубашку, в которой должна идти на экзамены и в которой была на выпускном. К рубашке прилагаются черный бархатный жилет и черные бархатные брюки, которые мне сшила мама.
ГОРДЕЕВА: Ты на выпускном не в платье была?
ХАМАТОВА: Нет, я же была начинающим панком, мне было западло. Этот костюм был моей самой нарядной одеждой. И я в нем проходила на все экзамены в ГИТИС от начала до конца, потому что ничего другого у меня не было в прямом смысле слова. И я с изумлением или даже недоумением смотрела, как другие поступающие девочки переодеваются у меня на глазах всё время в разные наряды и одежды: у них – целые тюки… У меня были одни туфли, один костюм и одна рубашка, которую я к концу своей вступительной эпопеи сожгла немножечко этим самым утюгом, но всё равно ходила в ней, потому что другой не было.
Так вот, я глажу эту рубашку и слышу, как мама говорит папиному другу, у которого мы жили: “Лишь бы не поступила. Лишь бы не поступила”. Но я делаю вид, что не слышу, прихожу на прослушивание: там огромная очередь. Я понимаю, что это надолго, и иду гулять. Гуляю, гуляю и вдруг на развале на Кузнецком Мосту покупаю пластинку Скрябина. В Казани таких пластинок не было. С этой пластинкой в руках я возвращаюсь к ГИТИСу, в каком-то блаженстве иду на прослушивание, прохожу всё, что там надо. Мне говорят: “Ждите информации о дате следующего прослушивания”. А я думаю о том, как вернусь домой и буду слушать пластинку. Почему-то меня только эта мысль волновала.
В конце дня вывесили списки. Я прошла.
Мы уехали в Казань, я слушала пластинку непрерывно.
Мы с мамой опять покупали билеты, ехали, где-то жили, я гладила рубашку, чистила туфли детским кремом с котенком на тюбике и продолжала вступительную эпопею, стараясь не заглядывать в будущее и не слишком веря, что всё это положительным для меня образом кончится.
И вдруг Юнона мне говорит, что видела Женю Дворжецкого, и он ей сказал: “Спасибо за девочку, которую вы нам подсунули”. Она хотела меня приободрить, показать, что дело в шляпе. Но я всё равно продолжала не верить своему счастью до тех пор, пока на каком-то из туров уже сам Алексей Владимирович не оставил меня одну и не сказал, чтоб я никуда больше не показывалась (а я и так никуда не показывалась), что они меня берут, но всё равно все этапы пройти надо. Я их прошла. Вернулась в Казань. И легла в больницу.
ГОРДЕЕВА: В больницу?
ХАМАТОВА: Надо было что-то делать со спиной, которая у меня уже несколько месяцев чудовищно болела. И эти осмотры, обходы и лечение, словом, это больничное лето стало для меня мостиком между детством и юностью.
Было жарко. В отделении начали морить тараканов. Я лежала под капельницей, а по потолку в каком-то изнеможении от яда позли отравленные насекомые. Где-то на середине потолка их настигала смерть, и они падали, просто как у Гоголя, черными черносливинами прямо на кровати пациентов, которые из-под капельниц никуда не могли деться. Примерно в эти “дни падающих тараканов” мой лечащий врач, профессор, принес мне книжку “Театр Питера Брука”.
У этого подарка был двойной смысл: моя мама очень волновалась, что с такой больной спиной я не смогу быть актрисой, не смогу выдерживать физические нагрузки, а профессор пришел и сказал: “Не надо нервничать, всё от головы идет, всё от головы”. И вручил мне эту книжку.
ГОРДЕЕВА: Ты стала актрисой “от головы”?
ХАМАТОВА: Питер Брук – великий режиссер, и книжку я прочла от корки до корки несколько раз. Но учиться мне потом предстояло по системе Станиславского. Там одной головой не обойдешься.
Глава 8. Вареный осьминог
В апреле 2009 года меня чуть не назначили министром озеленения сицилийского города Салеми. На Сицилии бушевала весна и расцветала культурная революция: губернатором крошечного Салеми назначили Витторио Згарби, бывшего министра культуры Италии, искусствоведа, лево-либерала и эксцентрика. Згарби немедленно привез в Салеми картину Караваджо (одну), миланского ресторатора (одного) и пиарщика-концептуалиста (тоже одного). И обнародовал множество планов по возрождению Салеми и превращению этого далекого от всего на свете, включая море, захолустья в туристическую Мекку.
Помимо мафии, десятилетиями державшей Салеми в черном теле, у реформатора Згарби был еще один враг: разруха. В 1968 году страшное землетрясение стерло с лица Земли больше половины города. Часть домов исчезла, другая за полвека забвения поросла быльем, населилась кошками и уныньем, став совершенно непригодной для жизни и неподъемно дорогой для восстановления. Патронаж ЮНЕСКО руинам никак не помогал.
Жизнь ушла из Салеми: сперва город оплакивал погибших, а потом, не в силах справиться с нанесенной землетрясением ссадиной, стал беднеть и пустеть.
Тогда-то и появился Витторио Згарби, напористый энтузиаст из Милана. Он населил арабо-норманнский замок Салеми креативной молодежью и прямо с исторического балкона объявил граду и миру о начале программы по возрождению города. Программа называлась “Дом за ОДИН евро”.
Идея Згарби была простой и симпатичной: продать тяготившие город исторические развалюхи XII–XV веков всем желающим. За один евро. С обязательством когда-нибудь восстановить приобретенное имущество за свой счет. Згарби без устали мотался по свету, рассказывая о своей гениальной идее тем, чье имя в списке покупателей могло бы как следует прославить проект. Благодаря его усердию, первыми владельцами салеминской недвижимости стали Мадонна, Боно, Криштиану Роналду, Моуринью и Брэд Питт. Их именами были оклеены самые отчаянные развалюхи. В Салеми потянулись журналисты. Предполагалось, что за ними подтянутся туристы и потенциальные покупатели.
О Згарби, Салеми и проекте “Дом за один евро” я узнала от знатока всего итальянского журналиста Валерия Панюшкина. И примчалась снимать фильм для передачи “Профессия – репортер”, в которой работала на российском телеканале НТВ.
Происходящее в Салеми было похоже на девелоперский бум. Я взяла интервью у губернатора Згарби, во время которого он и назначил меня министром озеленения будущего “города счастья”. А потом отвел за локоть от телекамер и доверительно сообщил: “На Сицилии – самом красивом из самых красивых мест Италии – вообще очень недорогая недвижимость. Если с нашим проектом что-то пойдет не так, ты всегда можешь найти здесь место для жизни по очень приличной цене. Не переставай мечтать”. Я дрогнула. И тоже вложила свой евро в суперпроект Згарби.
О покупке я рассказала вечером в телефонном разговоре своей подруге Чулпан Хаматовой. И слово в слово передала зажигательную речь мэра. “Как интересно”, – отозвалась Чулпан. И надолго замолчала. Она так часто делает. Раньше я считала, что прерывается связь. Но потом поняла: такое молчание значит, что Чулпан думает. Минуты через три она сказала: “А мне тоже купи?..” И я купила. Так на двух поросших полынью и бурьяном развалинах появились желтые стикеры со сделанными черным фломастером надписями Katerina и Chulpan. И припиской 1 euro е gia pagato.
Звезда политика Згарби закатилась так же стремительно, как и взошла. То ли сицилийская мафия не разделяла принципы “открытого города”, то ли сам Згарби, быстро загоревшись, быстро и охладел к своему проекту; проект “Дом за один евро” захирел, так и не обретя никакого законного юридического статуса. Наши с Чулпан исторические развалины остались всё теми же историческими развалинами. Разве что желтые стикеры с именами (хоть какое-то свидетельство о собственности) отклеились, черный фломастер расплылся.
Но мы-то мысленно уже жили на Сицилии.