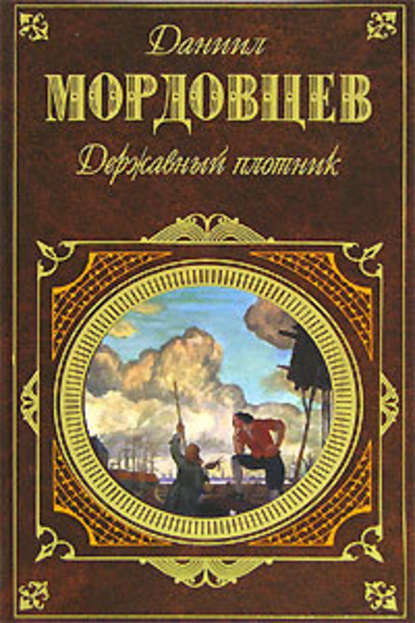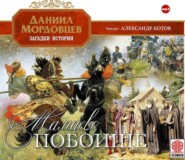По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что выражает ее неуловимая улыбка? А то, что она умнее всех, могущественнее и, как женщина, хитрее. Значит, была хитра, коль одурачила этого мраморного старика, этого злюку, ядовитого язычка которого боялась вся Европа. Храповицкий наивно записал в своем «Дневнике» эту ее ловкую проделку под 6 февраля 1791 года. «Австрийцы за нас не вступятся, – говорила Семирамида Севера Храповицкому в то время, когда тот занимался „до поту перлюстрацией“, – им обещан Белград от пруссаков, кои с согласия Англии берут себе Данциг и Торунь. Я послала письмо к Циммерману в Ганновер по почте, через Берлин, дабы через то дать знать прусскому королю, что турок спасти он не может. Я таким образом сменила Шуазеля, переписываясь с Вольтером»[16 - Дневник Храповицкого, изд. Барсукова, 357.].
Чисто женская проделка! Ловкая Семирамида знала, что и Фридрих-Вильгельм Прусский занимается в Берлине, как и она сама в Петербурге, «перлюстрацией» чужих писем и непременно прочитает ее коварное письмо к Циммерману, как и в Париже, прежде, читали ее письма к Вольтеру. А мудрый философ думал, что она пишет ему лично: нет, ей хотелось свалить Шуазеля этим письмом, и она свалила его.
В другом месте, под 5 августа того же года, у Храповицкого записано: «В продолжение разговора я напоминал государыне о смене Шуазеля перепискою с Вольтером и что ныне по корреспонденции с Циммерманом сменили Герцберга. „И впрямь так, – изволили сказать, – я и забыла“.
Где же помнить всех, кого вы провели и вывели!
Седая борода постояла перед портретом, постояла, покачала задумчиво головой и снова присела к столу, где лежала большая старая книга с жесткими пожелтевшими листами. И опять та же невозмутимая могильная тишина и те же слабо доносящиеся извне отзвуки жизни, замирающий стук экипажей, замирающий в воздухе глухой звон далекого колокола.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...
Далекою стариною, молодостью повеяло от этого стиха, словно от засохшего и полинялого лепестка розы в пожелтевшем от времени альбоме.
А эти книги на полках, массы книг, это же засохшие лепестки жизни, следы дум, страданий, счастья: это стоят на полках высушенные человеческие головы, сердца и остовы покойников.
Седая борода, отодвинув от себя книгу, откинулась на спинку кресла и задумалась. Ни над чем так хорошо не думается, как над умной книгой.
Но что это, как будто стукнуло там, в той половине залы, где сидит мраморный старик? Нет, это не так, это треснул на полке где-то пересохший переплет книги.
Стук повторился. Как будто скрипнула шашка паркета, другая: и паркет пересох, как кожаный переплет книги.
Слышатся как будто шаги в «Россике». Но это, конечно, сторож. Нет, сторож спит.
Что же это? Шаги приближаются, медленные тяжелые шаги. Да, кто-то идет.
Седая борода оглядывается туда, откуда приближаются шаги. Что же это такое! Происходит что-то непостижимое, страшное...
Это идет мраморный старик, что сидит в мраморном кресле. Не может быть, чтобы это был он – мрамор не может ходить. Но нет, он идет: полы мраморной мантии шевелятся; ноги в мраморных сандалиях передвигаются мерно и медленно, как старческие ноги вообще; голова старика заметно трясется, плотно сжатые губы беззвучно шевелятся и безжизненно-мраморные глаза светятся жизнью – они устремлены вперед, туда, где в золоченой раме стоит у пылающего жертвенника Семирамида Севера с опустившеюся с плеч горностаевою мантией.
Что же это такое? Не бред ли расстроенного воображения? Не сон ли? Нет, вон голуби по-прежнему воркуют за окном и шуршат о карниз крыльями, с Невского доносится глухой гул удаляющихся экипажей – все тот же вечерний звон доносится издалека и точно тает в воздухе.
Зашуршало что-то вправо, и словно стена дрогнула. Это дрогнула золотая рама, задрожало полотно и от него медленно, неслышно отделилась женщина в горностаевой мантии: она вышла из полотна и как тень сошла на пол, шурша складками атласного платья
Вот она двигается, волоча за собою горностаевую мантию. На лице все та же приветливая, но загадочная улыбка.
И мраморный старик, и женщина в горностаевой мантии сближаются, идут навстречу друг другу. И лицо мраморного старика скривилось улыбкой. Опущенные руки поднимаются и почтительно складываются у сердца, дрожащая голова низко наклоняется.
– Ah! C’est vous, mon philosophy[17 - А! Это вы, мой философ! (Здесь и далее перевод автора с фр.)], – слышится тихий ласкающий голос.
– C’est moi, madame! C’est moi, qui salue la grande Semiramis du Nord[18 - Это я, государыня! Я приветствую великую Семирамиду Севера!], – шепчут мраморные губы.
– Какая счастливая встреча! Что привело вас в мое скромное царство? А меня еще так огорчило было ваше письмо к князю Голицыну, в котором вы писали обо мне: «Оu est le temps, que e n’avais que soixante et dix ans? ‘aurais couru l’admirer! Оu est le temps que ‘avais encore de la voix! e l’aurais chantee sur tout le chemin du pied des Alpes a la mer d’Archan-gel!»[19 - Где то время, когда мне было только семьдесят лет? Я пришел бы, чтобы удивляться ей! Где то время, когда у меня еще был голос! Я воспел бы ее на всем пространстве от подножия Альп до Архангельского моря!]. А теперь вы пришли ко мне, как я рада!
– Да, государыня, я пришел к вам, несмотря на мои годы: меня давно манила к себе великая северная звезда... Я имел счастье писать вашему величеству: «C’est maintenant vers l’etoile du nord qu’il faut que tous les yeux se tournent. Votre maeste imperiale a trouve un chemin vers la gloire inconnue avant elle a tout les autres souverains!»[20 - Теперь все взоры должны обратиться к звезде Севера. Ваше императорское величество нашли путь к славе, доселе неведомый всем прочим государствам!]. И вот я у ваших ног.
Что-то захрустело, вроде костей, и мраморный старик опустился на колени.
– О! Встаньте! Не вам склонять передо мной ваши достойные колени: весь мир должен склониться перед вашим гением.
И она тихо положила руку на мраморное плечо старика.
– Встаньте!
И старик, стуча костями и мрамором, встал.
– Я повинуюсь вашему величеству. Но вспомните, что я писал вам, когда вы любезно приглашали меня на ваш карусель: «La reine Falestrice ne donna amais de carouzel, elle alia caoler Alexandre le Grand, mais Alexandre serait venu vous faire la cour»[21 - Царица Фалестрина никогда не устраивала каруселей, – она приходила только льстить Александру Великому; но Александр сам явился бы к вам, чтобы ухаживать за вами.].
– И вы пришли вместо него? Это очень любезно с вашей стороны.
– Смею ли я, государыня, так думать! Я, скромный отшельник Фернея, жалкий старик.
– Не говорите так! Весь мир вам рукоплещет...
– Рукоплескал, государыня... Теперь мир рукоплещет только вам!
– Oh! vous me caolez, mon philosophe[22 - О! Вы мне льстите, мой философ.].
– Non, madame, tout le monde, tout L’univers vous caole![23 - Нет, государыня, – весь мир, вся вселенная льстят вам!]
– О! Вы непобедимы...
– На словах, государыня, только... А вы...
– Что я! Слабая женщина... Не будь у меня друзей таких, как вы, я была бы ничто... Помните, я писала вам по поводу ваших слов об Александре Македонском: «Поистине, государь мой, я более дорожу вашими сочинениями, чем всеми подвигами Александра, и ваши письма доставляют мне более удовольствия, чем угодливость, которую бы мне оказал этот государь».
– Вы слишком милостивы, государыня, – осклабляется беззубый рот.
– О нет! Я только справедлива. Вы же ко мне действительно более чем милостивы.
– Чем же, ваше величество?
– А хоть бы вашими письмами к князю Голицыну.
– А разве он давал их читать вам, государыня?
По лицу вопрошаемой скользнула неуловимая тень и спряталась в глазах.
– Да, показывал.
Но лицо ее говорило не то, что говорили уста. В ее тонкой улыбке сквозила картина, перенесшая ее в прошлое, в ее кабинет: у окна стоит Левушка Нарышкин и ловит муху, а в стороне, у особого столика, сидит Храповицкий и, утирая фуляром красное вспотевшее лицо, перлюстрирует письмо Вольтера к князю Голицыну; сама же она сидит за своим письменным столом и пишет тайное послание Фридриху Прусскому о разделе Польши: «Tout cela, monsieur mon frere, me confirme dans le sentiment que pour aller a eu sur, il sera plus conve-nable – de rendre mon parti en Pologne superieur par une somme considerable – pour a cheter cet etat qui n’attende que des marchands pour se vendre»[24 - Все это, государь, брат мой, укрепляет меня в сознании, что для того, чтобы идти на верную игру, следует только дать моей партии в Польше перевес с помощью суммы, достаточной для того, чтобы купить эту страну, которая ждет только покупателей, чтобы продаться им.].
– Да, – повторила она с тою же загадочной улыбкой, – я читала ваши письма к князю Голицыну. Еще в одном вы обращаетесь к поэту Томасу...
– Помню, помню, государыня.
– И говорите: «М-r Thomas! vous qui etes eune et qui avez meilleure voix que moi, vous avez dea celebre Pierre 1 en trois chants, e vous en demende un quatrieme pour Catherine Seconde»[25 - Г. Томас! Вы, у которого есть молодость и голос лучше моего, – Вы уже прославили Петра I в трех гимнах: я прошу у вас четвертого – для Екатерины Второй!].