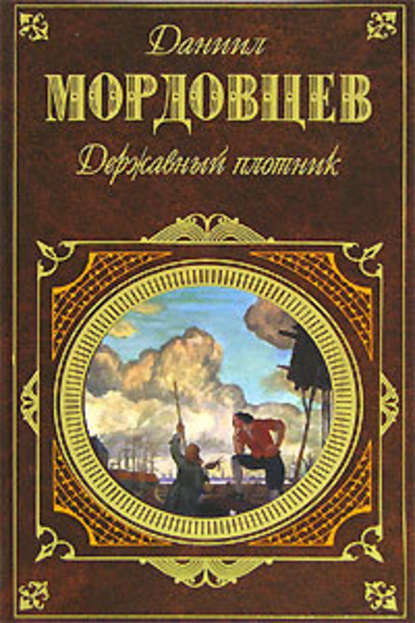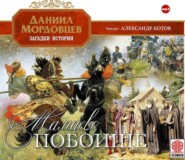По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это правда, государыня.
– Но я продолжаю утверждать, что вы больше приписываете мне, чем я заслужила. Вы пишете Голицыну: «Le titre de mere de la patri restera a rimperatrice malgre elle Pour moi, si elle vtent a tout d’inspirer la tolerance aux autres princes, e 1’appellerai fa biefaitrice du genre humain»[26 - Титул Матери отечества останется за императрицею даже вопреки ее воле. Что касается меня, то – если она внушит другим государям такое же милосердие – я назову ее благодетельницею рода человеческого.].
– Oui, madame, c’est vrai[27 - Да, государыня, – это правда.], – лукаво улыбается старик.
– Нет, это слишком много. Вы даже говорите там, что «lе merite des francais est qu’ob celebre mes loungesdans leur langue qui est devenue, e ue saiscomment,celle de l'Europe»[28 - Заслуга французов состоит в том, что они воздают мне хвалу на своем языке, который сделался, я не знаю почему, языком всей Европы.].
– Но это правда, государыня, – улыбается лукавый старик.
– Нет, нет! Из угождения мне вы унижаете Францию и весь Запад. Когда я вас спрашивала, сожжена ли книга аббата Базена, вы отвечали, что еще нет, и прибавили, будто бы во Франции подозревают, что книга написана в России, ибо истина, как вы выразились, приходит с Севера, с Запада же только безделушки; «La ve ite vient du Nord, comme les colifichets vient – de Toccident»[29 - Истина приходит с Севера, подобно тому, как безделушки – с Запада.].
– И здесь я не преувеличил, государыня.
– О, вы слишком добры к нам, северным варварам.
– Mais non, madame![30 - Нет, государыня.] Я повторяю ваши слова: я только справедлив.
– Даже тогда, – с ярко блеснувшим взором перебила она его, – когда предсказывали, что мои подданные будут ставить мне храмы, как божеству?
– Даже и тогда, государыня.
– А помните, что я отвечала вам на это?
– Простите, всемилостивейшая государыня, забыл, ведь я так стар.
– Так я напомню вам. Я отвечала: «От всякого другого, кроме вас и ваших достойных друзей, я не желала бы быть поставленною в число тех, которых так давно боготворило человечество». В самом деле, как ни мало во мне самолюбия...
На этом слове она точно поперхнулась, а старик закашлялся...
– Но, – продолжала она, – поразмыслив, невозможно желать видеть себя приравненною лотосам, луковицам, кошкам, телятам, шкурам зверей, змеям, крокодилам и всякого рода животным. После такого исчисления какой человек пожелает храмов! Нет, лучше остаться здесь на земле, я лучше хочу получать ваши и ваших друзей письма – Даламберов, Дидеротов и других энциклопедистов...
В этот момент в «Россике» что-то зашуршало. Из какого-то шкафа тихо вылезла человеческая фигура в форменном камзоле и в парике. Ба! Да это старый знакомый, добрейший Степан Иванович Шешковский. Услыхав слово «энциклопедисты», он сейчас догадался, что ему, верно, предстоит «дело» – кого-нибудь «взять и допросить». Он спрятался за сторожа и выжидал удобной минуты. Но он жестоко ошибся, услыхав последующий разговор женщины в горностаевой мантии с мраморным стариком.
– Двигается ли дело с печатанием энциклопедии? – спросила первая.
– Нет, государыня.
– Почему же?
– Не позволяют продолжать.
– О, какая жестокая несправедливость! Поверьте мне: все чудеса на свете не в состоянии смыть пятна от помешательства печатанию энциклопедии[31 - Эти слова взяты из письма Екатерины II к Вольтеру.].
– Что делать, государыня! Не все так смотрят на печать, как вы, либеральнейшая и мудрейшая из владык мира.
– Правда, государь мой, я глубоко убеждена, что свобода печати великое благо народов.
– К сожалению, государыня, не все так думают.
– Да, истинно жаль... И энциклопедисты преследуются?
– Преследуются, государыня.
– Oh, malheur aux persecuteurs![32 - Горе преследователям!] – воскликнула она страстно.
Шешковский вздрогнул и побледнел.
– Malheur aux persecuteurs! – повторила женщина в мантии, – они заслуживают того, чтоб их поместили в разряд тех божеств, о которых я говорила – змей, крокодилов и диких зверей: вот их истинное место[33 - Тоже из письма Екатерины Алексеевны.].
При последних словах Шешковский, бледный как полотно, снова скрылся в шкаф.
У ног женщины в горностаевой мантии послышался шорох. Она оглянулась. У подола ее, шурша атласным платьем и выгибая пушистую спинку, терся и ласково мурлыкал котик царя Алексея Михайловича.
– А, это ты, киця! – ласково сказала женщина в мантии.
Мраморный старик скорчил лукавую улыбку.
– Даже звери несут дань удивления вашему величеству.
Она нагнулась, чтобы погладить котика.
– Кисынька! Кисынька! – позвала она.
– Кисынька! Кисынька! – злобно сверкнув глазами, отвечал ей кот человеческим голосом и, распушив хвост, прыгнул в свою витрину.
В этот момент из-за полотна в золотой раме тихо выдвинулись две человеческие тени и стали подвигаться к женщине в горностаевой мантии. Но она не видела их, стоя лицом к востоку.
– Malheur aux persecuteurs! – повторил как бы про себя мраморный старик.
– Malheur! Malheur! Malheur aux persecuteurs! – откликнулись на его слова двигавшиеся к нему тени.
Женщина в мантии вздрогнула и обернулась.
– Новиков и Радищев! – чуть слышно прошептала она.
Затем, гордо подняв голову и сделав повелительный жест рукою, громко сказала:
– Шешковский!
Степан Иванович как из земли вырос.
– Что прикажете, ваше императорское величество?
Она жестом указала на вытянувшиеся против нее тени и, не взглянув на стоящего сзади мраморного старика, величественно вошла в свою золотую раму.
Огонь на жертвеннике вспыхнул ярко, освещая корчившиеся в пламени листы каких-то книг, на крышке одной из которых ясно вырисовывались слова: «Путешествие из С.-Петербурга в Москву».
Мраморный старик задумчиво воротился в свое мраморное кресло и снова окаменел.
– Но я продолжаю утверждать, что вы больше приписываете мне, чем я заслужила. Вы пишете Голицыну: «Le titre de mere de la patri restera a rimperatrice malgre elle Pour moi, si elle vtent a tout d’inspirer la tolerance aux autres princes, e 1’appellerai fa biefaitrice du genre humain»[26 - Титул Матери отечества останется за императрицею даже вопреки ее воле. Что касается меня, то – если она внушит другим государям такое же милосердие – я назову ее благодетельницею рода человеческого.].
– Oui, madame, c’est vrai[27 - Да, государыня, – это правда.], – лукаво улыбается старик.
– Нет, это слишком много. Вы даже говорите там, что «lе merite des francais est qu’ob celebre mes loungesdans leur langue qui est devenue, e ue saiscomment,celle de l'Europe»[28 - Заслуга французов состоит в том, что они воздают мне хвалу на своем языке, который сделался, я не знаю почему, языком всей Европы.].
– Но это правда, государыня, – улыбается лукавый старик.
– Нет, нет! Из угождения мне вы унижаете Францию и весь Запад. Когда я вас спрашивала, сожжена ли книга аббата Базена, вы отвечали, что еще нет, и прибавили, будто бы во Франции подозревают, что книга написана в России, ибо истина, как вы выразились, приходит с Севера, с Запада же только безделушки; «La ve ite vient du Nord, comme les colifichets vient – de Toccident»[29 - Истина приходит с Севера, подобно тому, как безделушки – с Запада.].
– И здесь я не преувеличил, государыня.
– О, вы слишком добры к нам, северным варварам.
– Mais non, madame![30 - Нет, государыня.] Я повторяю ваши слова: я только справедлив.
– Даже тогда, – с ярко блеснувшим взором перебила она его, – когда предсказывали, что мои подданные будут ставить мне храмы, как божеству?
– Даже и тогда, государыня.
– А помните, что я отвечала вам на это?
– Простите, всемилостивейшая государыня, забыл, ведь я так стар.
– Так я напомню вам. Я отвечала: «От всякого другого, кроме вас и ваших достойных друзей, я не желала бы быть поставленною в число тех, которых так давно боготворило человечество». В самом деле, как ни мало во мне самолюбия...
На этом слове она точно поперхнулась, а старик закашлялся...
– Но, – продолжала она, – поразмыслив, невозможно желать видеть себя приравненною лотосам, луковицам, кошкам, телятам, шкурам зверей, змеям, крокодилам и всякого рода животным. После такого исчисления какой человек пожелает храмов! Нет, лучше остаться здесь на земле, я лучше хочу получать ваши и ваших друзей письма – Даламберов, Дидеротов и других энциклопедистов...
В этот момент в «Россике» что-то зашуршало. Из какого-то шкафа тихо вылезла человеческая фигура в форменном камзоле и в парике. Ба! Да это старый знакомый, добрейший Степан Иванович Шешковский. Услыхав слово «энциклопедисты», он сейчас догадался, что ему, верно, предстоит «дело» – кого-нибудь «взять и допросить». Он спрятался за сторожа и выжидал удобной минуты. Но он жестоко ошибся, услыхав последующий разговор женщины в горностаевой мантии с мраморным стариком.
– Двигается ли дело с печатанием энциклопедии? – спросила первая.
– Нет, государыня.
– Почему же?
– Не позволяют продолжать.
– О, какая жестокая несправедливость! Поверьте мне: все чудеса на свете не в состоянии смыть пятна от помешательства печатанию энциклопедии[31 - Эти слова взяты из письма Екатерины II к Вольтеру.].
– Что делать, государыня! Не все так смотрят на печать, как вы, либеральнейшая и мудрейшая из владык мира.
– Правда, государь мой, я глубоко убеждена, что свобода печати великое благо народов.
– К сожалению, государыня, не все так думают.
– Да, истинно жаль... И энциклопедисты преследуются?
– Преследуются, государыня.
– Oh, malheur aux persecuteurs![32 - Горе преследователям!] – воскликнула она страстно.
Шешковский вздрогнул и побледнел.
– Malheur aux persecuteurs! – повторила женщина в мантии, – они заслуживают того, чтоб их поместили в разряд тех божеств, о которых я говорила – змей, крокодилов и диких зверей: вот их истинное место[33 - Тоже из письма Екатерины Алексеевны.].
При последних словах Шешковский, бледный как полотно, снова скрылся в шкаф.
У ног женщины в горностаевой мантии послышался шорох. Она оглянулась. У подола ее, шурша атласным платьем и выгибая пушистую спинку, терся и ласково мурлыкал котик царя Алексея Михайловича.
– А, это ты, киця! – ласково сказала женщина в мантии.
Мраморный старик скорчил лукавую улыбку.
– Даже звери несут дань удивления вашему величеству.
Она нагнулась, чтобы погладить котика.
– Кисынька! Кисынька! – позвала она.
– Кисынька! Кисынька! – злобно сверкнув глазами, отвечал ей кот человеческим голосом и, распушив хвост, прыгнул в свою витрину.
В этот момент из-за полотна в золотой раме тихо выдвинулись две человеческие тени и стали подвигаться к женщине в горностаевой мантии. Но она не видела их, стоя лицом к востоку.
– Malheur aux persecuteurs! – повторил как бы про себя мраморный старик.
– Malheur! Malheur! Malheur aux persecuteurs! – откликнулись на его слова двигавшиеся к нему тени.
Женщина в мантии вздрогнула и обернулась.
– Новиков и Радищев! – чуть слышно прошептала она.
Затем, гордо подняв голову и сделав повелительный жест рукою, громко сказала:
– Шешковский!
Степан Иванович как из земли вырос.
– Что прикажете, ваше императорское величество?
Она жестом указала на вытянувшиеся против нее тени и, не взглянув на стоящего сзади мраморного старика, величественно вошла в свою золотую раму.
Огонь на жертвеннике вспыхнул ярко, освещая корчившиеся в пламени листы каких-то книг, на крышке одной из которых ясно вырисовывались слова: «Путешествие из С.-Петербурга в Москву».
Мраморный старик задумчиво воротился в свое мраморное кресло и снова окаменел.