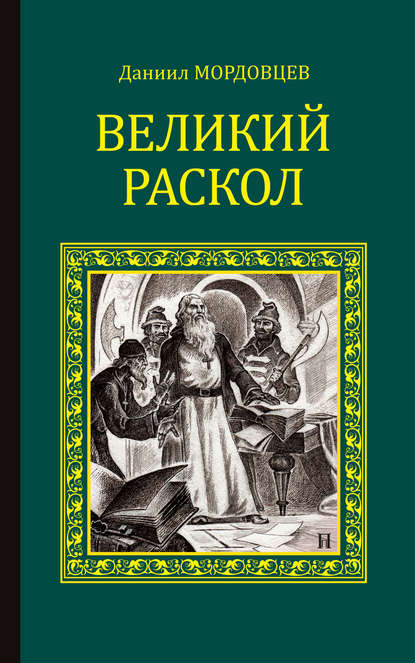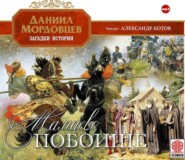По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великий раскол
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот и хорошо, государыня царевна, – отвечала Морозова, лаская бойкую девочку.
– Ну, так теперь и пастилы можно дать?
– Можно, можно.
Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.
– Ты об чем, Оленушка, плакала? – спросила девочка.
Оленушка не отвечала, а только смущенно опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.
– Это ты ее? – спросила она.
– Чтой-то, царевнушка! все я да я! – защищалась толстуха. – Оленушку замуж отдают.
– Замуж! за кого?
– Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.
– A! я его видала с переходов – точно лях. – И девочка с участием подошла к Оленушке…
– Не плачь, Оленушка, – сказала она, – вон Симеон Ситианович сказывает: у них, у черкасов, говорит, лучше жить – веселее…
В это время кто-то торопливо говорил у дверей:
– Государыня-царица, государыня-царица идет…
IX. Смута в Соловках
Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьезные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накинул сильную тень на самое поведение патриарха. При всем том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большою живучестью – живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребенка, злая мачеха столкнула в погреб и когда он, наэлектризованный фанатическою проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальносгь своей судьбы над Русскою землею и глубоко веровал, что не люди, а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда Своею десницею или возвести еще выше. Он ждал только указания свыше – и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.
Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днем, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман все оставался в Москве, сватался, а потом собирался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше Святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.
Дни тянулись за днями, как те тяжелые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придет снова весна, и оно будет не пустое», – думалось ему, и при этом само собой это черненькое птичье гнездышко сопоставлялось с покинутым в Москве Патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.
Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломанными его мощною рукою, далеко рассеянными и присыпанными морозною пылью далекой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жены шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова – царицыны любимицы – стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается.
И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: по всей Русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки – это вечевой колокол всей старой Руси.
Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат:
– По святой Руси ходит ересь пестрозвериная: опестрил тою ересью Никона Арсентий грек, а Никон опестрил ересью все книги, всю Русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.
Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там еще в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. Ввиду такого страшного дела архимандрит созвал «черный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.
Вынесли книги, положили на стол.
– Смотрите, отцы и братия, каковы книги, – взывал архимандрит, – а я уже стар и слеп: может, чего не догляжу.
Заскрипели и защелкали медные застежки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роются старцы, усердно, до поту роются – и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своем как будто месте, не знаешь, где его искать, как и читать: то «Отче наш» не на своем месте, то в «Богородице» буки не с такою заставкою, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь – застряло где-то. Беда, да и только! В старых книгах знаешь, где что искать, – листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен муж» – он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» – и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдешь, так не прочтешь – литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками…
– Отцы и братия! – кричит один инок. – В Символе веры, чу, аз выкинули!
– Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынские они! – кричит другой.
Черный собор заволновался. Выступили ученые старцы, попы и дьякона.
– Отцы и братия! Стойте на старых книгах. По ним мы учены и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать.
– Поздно! поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем, да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.
– Долой новые книги! – кричала братия.
– В огонь их, в море!
– Помолчите, отцы и братия! – завопил новый оратор, выступая из толпы. – Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам и мы от них причащаться не будем – помрем и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придет какая кручина либо жестокое повеление, и нам всею братьею бить за него челом своими головами, стоять всем за одно до смерти.
– Ладно! Стоять до смерти! – заревел черный собор. – Не выдавать архимандрита!
Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слезы.
– Братия и все православные христиане! – говорил он дрожащим голосом. – Видите, братия, последнее время: встали новые учителя и от веры православной, и от отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то пошел – умру за святой аз.
Черный собор заревел почти в один голос:
– Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!
Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.
– А! – застонал черный собор. – Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!
Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки Спасского ярославского монастыря архимандрит Сергий с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора – привести соловецкую братию к повиновению. Сергий собрал черный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.
– Указу великого государя мы послушны и во всем ему повинуемся! – выделились отдельные голоса из толпы. – А повеления о Символе веры, о сложении перстов, о аллилуйе и новоизданных печатных книг не приемлем.
На скамью встает сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своею головой, складывает три первые пальца и кричит неистово:
– Смотрите! это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет – патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!
Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста… умру за святой аз…»
Сергий, ошеломленный воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.
– Со всеми разом говорить нельзя: меня закричат.
– Геронтий! Геронтий! – раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступил он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шел на кулачки.
– Зачем вы у нас Сына Божия отняли? – сразу накинулся он на Сергия.
– Ну, так теперь и пастилы можно дать?
– Можно, можно.
Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.
– Ты об чем, Оленушка, плакала? – спросила девочка.
Оленушка не отвечала, а только смущенно опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.
– Это ты ее? – спросила она.
– Чтой-то, царевнушка! все я да я! – защищалась толстуха. – Оленушку замуж отдают.
– Замуж! за кого?
– Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.
– A! я его видала с переходов – точно лях. – И девочка с участием подошла к Оленушке…
– Не плачь, Оленушка, – сказала она, – вон Симеон Ситианович сказывает: у них, у черкасов, говорит, лучше жить – веселее…
В это время кто-то торопливо говорил у дверей:
– Государыня-царица, государыня-царица идет…
IX. Смута в Соловках
Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьезные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накинул сильную тень на самое поведение патриарха. При всем том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большою живучестью – живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребенка, злая мачеха столкнула в погреб и когда он, наэлектризованный фанатическою проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальносгь своей судьбы над Русскою землею и глубоко веровал, что не люди, а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда Своею десницею или возвести еще выше. Он ждал только указания свыше – и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.
Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днем, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман все оставался в Москве, сватался, а потом собирался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше Святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.
Дни тянулись за днями, как те тяжелые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придет снова весна, и оно будет не пустое», – думалось ему, и при этом само собой это черненькое птичье гнездышко сопоставлялось с покинутым в Москве Патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.
Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломанными его мощною рукою, далеко рассеянными и присыпанными морозною пылью далекой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жены шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова – царицыны любимицы – стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается.
И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: по всей Русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки – это вечевой колокол всей старой Руси.
Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат:
– По святой Руси ходит ересь пестрозвериная: опестрил тою ересью Никона Арсентий грек, а Никон опестрил ересью все книги, всю Русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.
Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там еще в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. Ввиду такого страшного дела архимандрит созвал «черный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.
Вынесли книги, положили на стол.
– Смотрите, отцы и братия, каковы книги, – взывал архимандрит, – а я уже стар и слеп: может, чего не догляжу.
Заскрипели и защелкали медные застежки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роются старцы, усердно, до поту роются – и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своем как будто месте, не знаешь, где его искать, как и читать: то «Отче наш» не на своем месте, то в «Богородице» буки не с такою заставкою, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь – застряло где-то. Беда, да и только! В старых книгах знаешь, где что искать, – листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен муж» – он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» – и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдешь, так не прочтешь – литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками…
– Отцы и братия! – кричит один инок. – В Символе веры, чу, аз выкинули!
– Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынские они! – кричит другой.
Черный собор заволновался. Выступили ученые старцы, попы и дьякона.
– Отцы и братия! Стойте на старых книгах. По ним мы учены и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать.
– Поздно! поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем, да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.
– Долой новые книги! – кричала братия.
– В огонь их, в море!
– Помолчите, отцы и братия! – завопил новый оратор, выступая из толпы. – Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам и мы от них причащаться не будем – помрем и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придет какая кручина либо жестокое повеление, и нам всею братьею бить за него челом своими головами, стоять всем за одно до смерти.
– Ладно! Стоять до смерти! – заревел черный собор. – Не выдавать архимандрита!
Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слезы.
– Братия и все православные христиане! – говорил он дрожащим голосом. – Видите, братия, последнее время: встали новые учителя и от веры православной, и от отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то пошел – умру за святой аз.
Черный собор заревел почти в один голос:
– Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!
Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.
– А! – застонал черный собор. – Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!
Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки Спасского ярославского монастыря архимандрит Сергий с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора – привести соловецкую братию к повиновению. Сергий собрал черный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.
– Указу великого государя мы послушны и во всем ему повинуемся! – выделились отдельные голоса из толпы. – А повеления о Символе веры, о сложении перстов, о аллилуйе и новоизданных печатных книг не приемлем.
На скамью встает сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своею головой, складывает три первые пальца и кричит неистово:
– Смотрите! это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет – патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!
Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста… умру за святой аз…»
Сергий, ошеломленный воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.
– Со всеми разом говорить нельзя: меня закричат.
– Геронтий! Геронтий! – раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступил он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шел на кулачки.
– Зачем вы у нас Сына Божия отняли? – сразу накинулся он на Сергия.