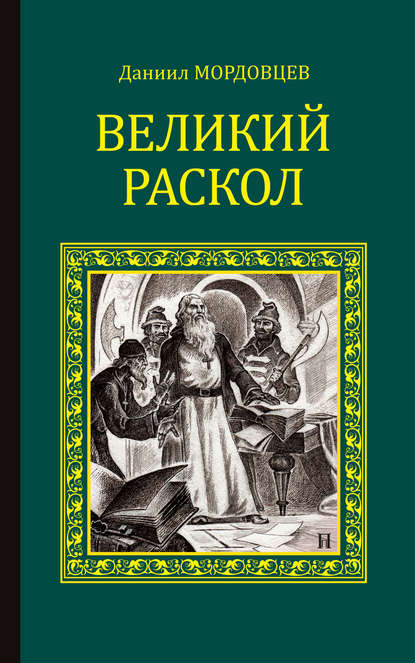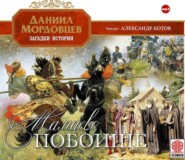По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великий раскол
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да вот как: «смертию смерть поправ»… А! не срамота ли сие? Точно смерть порты али рубахи прала… «Поправ»! Ишь выдумали! Прать – прать и есть, сиречь «мыть».
– А попирать ногами? – вступился было Полоцкий.
– Да что ты смыслишь с своим хохлацким языком? – снова накинулся на него неудержимый протопоп. – Суйся с своим еллинским языком, куда знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей… «поправ»… Эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану – срамота одна!
– Ну и крепок же ты, протопоп, – задумчиво сказал молодой Ртищев.
– Крепонек Божиею помощию…
Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя победителем, с торжествующим видом обратился к ним.
– Так-то, Михайловна, – сказал он со снисходительною улыбкою Аннушке, – слушаете нас, буесловов? Слушаете – хлебец словесный кушаете… Не о хлебе едином…
– А что, отец протопоп, разнствует хлеб с опресноком? – перебила его Аннушка.
– Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки, – строго заметил протопоп.
Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула – ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.
– А еще царских детей учат, чу, – укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.
Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что ж с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских детей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действах».
– Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? – сказал он, сверкнув глазами.
– А хоть бы и нам! Ересям бы не научили, – огрызнулся Аввакум.
– Да вы, навежды, запятой от кавыки не отличите, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»…
– Зато смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете то! Сидели бы в своей Хохлатчине да вареники с галушками ели! – снова оборвал протопоп. – А то на! Лазарь, чу… Лазарь крепок в вере – он истинный учитель.
– Лазарь ругатель, а не учитель.
– Нет, учитель! Лазарь – истинный вертоградарь церковный, а не суется царских детей портить… Вот что!
Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:
– Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пятачками изрыли.
Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.
– Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пятачками весь вертоград изрыли… Н-ну сказал! – говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху.
Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.
Аввакум не сразу нашелся что отвечать – так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.
– Что ж! – бормотал он, озадаченный нечаянностью. – Ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пес лающий, ему же подобает уста заградить жезлом…
– Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ, – засмеялся молодой Ртищев, – невестке на отместку…
– Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо, – самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.
– Я не с ветру говорю, – начал, в свою очередь, Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву. – Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную и в ней гнилостными словесы говорит, якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о некиих каменных палатах…
– А как же! Палата – палата и есть! – снова накинулся на него Аввакум. – Палата всегда и бывает каменная!
– О, невежда протопоп! – невольно воскликнул Полоцкий. – «Палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образы бывает, егда едино из другаго коим-либо обычаем познавается.
– Толкуй! Знаем мы ваши синекдохи…
И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:
– Видишь, Федосья Прокопьевна? они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами – и мне с ними кое общение? – яко свету со тьмою, Христу с Велиаром!
Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по ее нежному лицу.
– Ах, Дунюшка милая! – говорила она потом вечером своей сестре, Урусовой. – Как страшно они спорили! И разошлись, яко пьяни…
VII. Въезд Брюховецкого в Москву
Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всею Россиею шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскаленной железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, и силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского собора, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею Русскою землею.
– Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, яко лист желтый с осеннего древа, – часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.
По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов Священного Писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом: но потом на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головою, рвал написанное и бросал в печку.
– Не то, не то, – шептал он, глядя на чернеющиеся и испепеляющиеся листы. – Кому озеро Лач, а мне горький плач… Али и я не сподобился острова Патмоса?.. Нет. Не хочу! Не быть тому!
И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом снова вскакивал и начинал писать до утомления.
Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни… жизнь прошла, яко миг… о, Владыко Всемилостиве!»…
Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит со своего возвышения: «Не торопись! читай внятно!» – и снова опирается на посох, и снова задумывается.
Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бортей, безумно кричали грачи в монастырской роще, – он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места… Он ждал. Вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва – все для него превратилось в ожидание – ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.
Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.
Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестоноситель, входил к нему не иначе как по зову – когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда, мальчиком, он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством Российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровою, почти могильною обстановкою, и пустынножительство свое в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патриаршество… Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания его целой жизни разметал по ветру чей-то костыль, – и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая, черная головка птички с маленькими черными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом… А он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле… Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червячков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этою страдою маленькой матери… И – странное, невиданное дело! – монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх, в отсутствие ласточки, выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов… Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.
Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанного, а прятал за образ Богородицы «Утоли моя печали», перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою: «Одиннадцатое сентемврия… Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика… одиннадцатое… одиннадцатое… подожду одиннадцатого»…
Что же такое могло быть 11 сентября и почему Никон рассчитывал на этот день?
А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль Земляного города до самой заставы и далее по Серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ – все это валмя валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов со своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, а за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня – серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит золотом, волоченный по серебряной земле, седло бархат золотный, – ушми прядет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи – несколько сот человек.
Толпы москвичей особенно кучились за Земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными, как стекло, бердышами. Народ напирал на это место колыхающеюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне и покрикивая: «Назад! осади назад, черти!», проезжал какой-либо окольничий или сын боярский и колотил палкою по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские слова, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом – взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.
– А попирать ногами? – вступился было Полоцкий.
– Да что ты смыслишь с своим хохлацким языком? – снова накинулся на него неудержимый протопоп. – Суйся с своим еллинским языком, куда знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей… «поправ»… Эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану – срамота одна!
– Ну и крепок же ты, протопоп, – задумчиво сказал молодой Ртищев.
– Крепонек Божиею помощию…
Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя победителем, с торжествующим видом обратился к ним.
– Так-то, Михайловна, – сказал он со снисходительною улыбкою Аннушке, – слушаете нас, буесловов? Слушаете – хлебец словесный кушаете… Не о хлебе едином…
– А что, отец протопоп, разнствует хлеб с опресноком? – перебила его Аннушка.
– Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки, – строго заметил протопоп.
Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула – ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.
– А еще царских детей учат, чу, – укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.
Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что ж с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских детей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действах».
– Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? – сказал он, сверкнув глазами.
– А хоть бы и нам! Ересям бы не научили, – огрызнулся Аввакум.
– Да вы, навежды, запятой от кавыки не отличите, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»…
– Зато смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете то! Сидели бы в своей Хохлатчине да вареники с галушками ели! – снова оборвал протопоп. – А то на! Лазарь, чу… Лазарь крепок в вере – он истинный учитель.
– Лазарь ругатель, а не учитель.
– Нет, учитель! Лазарь – истинный вертоградарь церковный, а не суется царских детей портить… Вот что!
Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:
– Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пятачками изрыли.
Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.
– Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пятачками весь вертоград изрыли… Н-ну сказал! – говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху.
Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.
Аввакум не сразу нашелся что отвечать – так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.
– Что ж! – бормотал он, озадаченный нечаянностью. – Ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пес лающий, ему же подобает уста заградить жезлом…
– Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ, – засмеялся молодой Ртищев, – невестке на отместку…
– Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо, – самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.
– Я не с ветру говорю, – начал, в свою очередь, Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву. – Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную и в ней гнилостными словесы говорит, якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о некиих каменных палатах…
– А как же! Палата – палата и есть! – снова накинулся на него Аввакум. – Палата всегда и бывает каменная!
– О, невежда протопоп! – невольно воскликнул Полоцкий. – «Палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образы бывает, егда едино из другаго коим-либо обычаем познавается.
– Толкуй! Знаем мы ваши синекдохи…
И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:
– Видишь, Федосья Прокопьевна? они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами – и мне с ними кое общение? – яко свету со тьмою, Христу с Велиаром!
Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по ее нежному лицу.
– Ах, Дунюшка милая! – говорила она потом вечером своей сестре, Урусовой. – Как страшно они спорили! И разошлись, яко пьяни…
VII. Въезд Брюховецкого в Москву
Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всею Россиею шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскаленной железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, и силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского собора, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею Русскою землею.
– Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, яко лист желтый с осеннего древа, – часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.
По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов Священного Писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом: но потом на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головою, рвал написанное и бросал в печку.
– Не то, не то, – шептал он, глядя на чернеющиеся и испепеляющиеся листы. – Кому озеро Лач, а мне горький плач… Али и я не сподобился острова Патмоса?.. Нет. Не хочу! Не быть тому!
И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом снова вскакивал и начинал писать до утомления.
Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни… жизнь прошла, яко миг… о, Владыко Всемилостиве!»…
Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит со своего возвышения: «Не торопись! читай внятно!» – и снова опирается на посох, и снова задумывается.
Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бортей, безумно кричали грачи в монастырской роще, – он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места… Он ждал. Вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва – все для него превратилось в ожидание – ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.
Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.
Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестоноситель, входил к нему не иначе как по зову – когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда, мальчиком, он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством Российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровою, почти могильною обстановкою, и пустынножительство свое в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патриаршество… Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания его целой жизни разметал по ветру чей-то костыль, – и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая, черная головка птички с маленькими черными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом… А он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле… Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червячков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этою страдою маленькой матери… И – странное, невиданное дело! – монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх, в отсутствие ласточки, выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов… Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.
Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанного, а прятал за образ Богородицы «Утоли моя печали», перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою: «Одиннадцатое сентемврия… Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика… одиннадцатое… одиннадцатое… подожду одиннадцатого»…
Что же такое могло быть 11 сентября и почему Никон рассчитывал на этот день?
А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль Земляного города до самой заставы и далее по Серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ – все это валмя валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов со своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, а за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня – серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит золотом, волоченный по серебряной земле, седло бархат золотный, – ушми прядет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи – несколько сот человек.
Толпы москвичей особенно кучились за Земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными, как стекло, бердышами. Народ напирал на это место колыхающеюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне и покрикивая: «Назад! осади назад, черти!», проезжал какой-либо окольничий или сын боярский и колотил палкою по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские слова, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом – взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.